|
|

Эпизод является игрой в в настоящем и закрыт для вступления любых других персонажей. Если в данном эпизоде будут боевые элементы, я предпочту стандартную систему боя.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-06-17 18:14:36)
Аркхейм |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Аркхейм » Завершённые эпизоды » На лезвии ножа
|
|

Эпизод является игрой в в настоящем и закрыт для вступления любых других персонажей. Если в данном эпизоде будут боевые элементы, я предпочту стандартную систему боя.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-06-17 18:14:36)
Немногим ранее
Харот / Тульпа
Среди узких улочек на окраине города, куда редко заглядывали туристы и что вроде бы должно мешать бизнесу, притаилась лавка редкостей. В двухэтажном домишке под светло-коричневой черепичной крышей под магазин был отведен первый этаж, за обширным стеклом витрины на мир, вернее, на доступный клочок Тульпы, взирала со скучающим видом статуя русалки. Рядом с ней на установленной прямо табличке почти затерлась надпись «услуги ростовщика», вывеска же над дверью содержала изображение птичьего пера, выписанное чьей-то осторожной рукой, и тривиальное обозначение «редкости со всего света».
Взгляду того, кто отворил бы скрипучую дверь и шагнул внутрь, предстало бы содержимое магазина. Мрачное помещение освещали старомодные масляные лампы, тяжелые портьеры не пропускали свет с улицы, хотя последнего в городе и без того было мало в последние дни. За стеклом многочисленных витрин покоились предметы, которые мало искушенный посетитель принял бы за сувениры и безделушки. Наметанный глаз же мог обнаружить те самые «редкости», о которых предупреждала вывеска: различные статуэтки из дорогих металлов и камней, старинные украшения, выставленные бережно подобранным комплектом, незатейливые артефакты, хранящие в себе пару-другую свойств, полезных случайному прохожему. Редкие и опасные образцы хранились в сейфе, как и все, что хозяин находил на заказ, послушный воле своих клиентов.
За рядом витрин, опоясывающих комнату, с многочисленных полок на посетителя взирали книги: здесь были раздувшиеся от собственной важности энциклопедия, преисполнившиеся глубинного смысла труды по религии и науке, а кроме них и скромные тонкие путеводители по различным уголкам света. И драгоценные экземпляры старинных сказок, и просто редкие - написанных кем-то давным-давно историй. Некоторые корешки пестрили написанными самым разным начертанием названиями, другие блестели инкрустированными камнями. Свитки с картами и картинами, астролябии, весы и даже котлы, предметы, которым трудно было сразу подобрать название. Из общей картины выбивался разве что выставленный в уголке под аляпистым ловцом снов кукольный домик, точная копия чьего-то, вероятно, давно уничтоженного особняка.
Сейчас руки хозяина были заняты костяной брошью, с которой он аккуратно кисточкой счищал налипшие загрязнения. Брошь была белой и старинной, движения ростовщика — уверенными и осторожными, как и сама его натура, наполнявшая лавку размеренной тишиной и спокойствием, почти физически ощутимым.
- Да сколько ты можешь возиться с этой ерундой! - мнимое очарование оказалось вмиг нарушено громогласностью птицы, устроившейся под потолком на вделанной в стену жерди. - Когда уже завтрак?
- Я тебе насыпал сух…
- Сухого корма. Я тебе, что, кот? Сказал уже: не буду есть эту дрянь, от нее пахнет плесенью. Давай лучше ты бросишь эту брошку и сделаешь нам по бутерброду. С курятинкой, ммм… Не смотри на меня так! Это не каннибализм. Что-то не устраивает, так купи рыбки, что ли, мидий. Вытащи дохлую мышь из холодильника.
Хель вздохнул, вернул брошь в подготовленный заранее футляр, отложил кисточки и специальный раствор. Потом, поколебавшись, потянулся за тряпкой, чтобы смахнуть замеченную на полке пыль. Корвус обреченно застонал под потолком, и парой секунд позже по плечу ростовщика ударило тяжеленным фолиантом «Флоры и фауны Харота, издание седьмое, дополненное, с иллюстрациями К. Дальвина». С грохотом, который роедко ожидаешь даже от такой махины, и в сопровождении поднятого облачка пыли, книга упала на пол. Хель потер ушибленное плечо, прикрыв глаза.
- Тебя не зашибло? - заботливо и немного злорадно поинтересовалась птица.
- В кастрюле оставалась каша, можешь доесть.
- Сам ешь свою кашу, - проворчал Корвус, но поспешно ретировался на второй этаж.
Хель вернулся к работе: поднял с пола поврежденную книгу, недовольно цокнув языком, пробежал пальцами по разорвавшемуся корешку. Починка займет время. Пока отложил фолиант в сторону, под прилавок, и продолжил свой поход против пыли. Сейчас, когда каждый уголок небольшого помещения был ему знаком, ростовщик не нуждался ни в трости, ни даже в яркости освещения. Процесс был медитативен, движения полнились заботой и нежностью по отношению к каждой вещицу, нашедшей свой приют на многочисленных полках. Мысли, правда, витали далеко отсюда.
Найденная брошь нуждалась в реконструкции, по одному крылу костяной птахи протянулась коварная трещина, так похожая на те, что Хель неоднократно видел в зеркале. В фасеточных глазках не хватало одного крошечного зеленого камешка. Ростовщик прикидывал, за сколько ему обойдется работа ювелира, а потом, с постыдным сомнением вообразил, что из восстановленной броши мог бы выйти и неплохой подарок. На белесом брюшке ее узор складывался в довольно изящное изображение черепа. С другой стороны, вещица могла бы показаться вычурной из-за излишней яркости драгоценных глаз. Но изящество, с которым давно живший мастер вырезал хрупкие крылышки, могло бы уравновесить любую роскошь…
Сверху, со стороны второго этажа, послышался грохот и ругань Корвуса. Наверное, опрокинул кастрюлю. Губы против воли сложились в кривой усмешке: небось, и птицу придется отмывать от остатков пиши. Но это чуть позже, пока что ругань стихла, и установившуюся недолгую тишину нарушил скрип двери — и звон подвешенного над ней колокольчика.
Отредактировано Хель (2022-06-14 13:05:17)

«Хель»
Любовно выведенные буквы. Ажурный и аккуратный почерк. Вильям всегда по обложке толстой папки понимал, как относится мафиозная группировка «Сигма» к тому или иному человеку. Если это потенциальная жертва — человек на устранение — папка о ней обычно очень скудная, а имя не написано — накорябано торопливой рукой с размашистым резким шрифтом. Будто чтобы убить, не стоит тратить время на изучение предмета, даже имя его не стоит писать. Пара секунд: даже лишнее мгновение жалко тратить.
Другое дело, когда человек оказывается мафии полезен: там минимум пятнадцать полных листов досье, отдельный лист занимает папка движущихся фотографий, и почерк — как только берёшь папку в руки, видишь, что имя написано аккуратно.
Так Вильям впервые узнал, что Хель чем-то важен «Сигме».
Но про себя он так сказать не мог: его положение стало шатко после того, как консильери стал догадываться о его слишком «тесной» дружбе с Коалицией рас. В такие моменты Блауз становился похож на послушную собаку: не спорил, не пререкался, был тихим и исполнительным. И это раздражало ещё больше: против агрессии Вильям был обходителен и внимателен. Не давал повода себя в чём-то упрекнуть. Консильери скалил зубы и общался с ним так, будто последний был на допросе. Но нельзя дать злой собаке повода залаять — будет только хуже. Лучше погладить недовольного человека ментальной магией: от ощущения счастья человек добреет.
Вильям сидел напротив него, скрестив по-турецки ноги и водя ногтем по краю фотографии, на которой был изображён странный юноша с грубыми чертами лица. Он был бледен, рот казался непропорционально большим, а улыбка больше походила на оскал — личность была внушительная. Что тут говорить об вызывающих узорах татуировок — упомянутый Хель явно не представлял собой человека, который думал о том, что о нём скажут другие. И Вильям молчал: пытался предугадать, как именно ему общаться с человеком, когда налицо виден его сложный характер.
— И этот Хель поможет мне?
— Да, — короткий ответ прозвучал слишком быстро, будто это был вопрос решённый. — Он знает, как обращаться с редкостями и «особыми» предметами лучше остальных. Особенно когда они живые.
Вильям хмыкнул, уловив в словах консильери не то угрозу, не то попытку уколоть побольнее. С «живыми» объектами он и сам справлялся не хуже остальных: благо, ментальное очарование работало почти без осечек и превратить тигра в послушного ягнёнка можно было и без стороннего вмешательства. Вильям не поднял головы, но недовольно посмотрел исподлобья на собеседника. Консильери довольно усмехнулся: он попал в точку. В самую мишень и ударил его самооценку прямиком под коленную чашечку.
Пусть терпит. Вильям знал, что это нарочно. А его злой взгляд лишь недруга позабавил.
— Ещё что-то?
— Да. Му-шу нужно доставить живым и невредимым. А этого Хеля… убрать.
— Убрать? — вздёрнул брови Вильям.
— Да, — кивнул Зостер. — Само существование этого животного должно оставаться тайной. Они выведены секретно и искусственным путём. Если кто-то об этом узнает…
— Можешь не продолжать, — перебил Вильям, — я тебя понял.
— Предложи этому Хелю миллион на двоих. Скажи, что дело срочное, секретное и уезжайте. Пусть делает свою работу. Убьёшь его потом, когда му-шу будет в твоих руках.
Всё это пахло нечистым. Казалось, что двое в одной комнате чувствовали себя одновременно и обманутыми, и лжецами. Но дело принимало серьёзный оборот: отказаться от него значило подвести Дона и подставить себя под удар. Ведь чужое доверие теряется за долю секунды — как и жизнь по лёгкому щелчку пальцев.
Вильям покинул штаб-квартиру «Сигмы» следующим утром, чтобы увидеть своего помощника и жертву воочию. Ему не нравилось задание: казалось, что нечто в этом хитросплетении событий он упустил. Мельчайшую деталь, чтобы всё встало на свои места. С обещанием подумать об этом завтра, он толкнул входную дверь лавки редкостей, и звонкий колокольчик на двери тревожно заголосил от сильного толчка. Дверь чуть не слетела с петель.
— Привет! — шумно заголосил Вильям, ураганом ворвавшись в помещение.
Любого столь-нибудь психически здорового человека это, как минимум, вывело бы из состояния задумчивости, как максимум, заставило бы подпрыгнуть. Вильям не знал личных границ, не принимал традиционных правил общения в знакомстве. Он был себе на уме: и в этом с Хелем они были похожи.
Хотя внешне совершенно разные.
— Вилл, — предупреждая самый первый вопрос выпалил Блауз Хелю в лицо и встал напротив, облокотившись локтем о стойку. — Моему заказчику нужно найти нечто редкое. Особенный артефакт, а мне сказали, что в этом ты лучший. И Сзарин подтвердила. Мы с ней крепко знакомы.
Вильям радушно улыбнулся. Как улыбаются пауки, когда видят насекомое, приближающееся к их паутине. Он по-другому не умел. Хель ему был нужен, а значит, он не имел права на ошибку. Ведь его магия в чём-то совершенно слаба, а в чём-то безупречна. И натягивая пальцами магический эфир, он мог вызвать то лёгкое, но нужное впечатление.
Симпатию от первой встречи.
Она проникала в голову подобно чему-то совершенно родному и незаметному: приводила сердцебиение в нормальный ритм, успокаивала дыхание и замутняла разум в состояние лёгкой радости. Ты стоишь перед незнакомым человеком, он улыбается тебе и жмёт тебе руку. Ты не чувствуешь внушения, не чувствуешь влияния извне. На тебя никто не давит и не принуждает: ты волен в своих действиях, словах, но разум может думать лишь о том, что новый человек тебе приятен.
Если нечто иное не встаёт защитой от искусной мороки на настроение.
— На двоих один миллион. Мне нужна твоя помощь. 
Посетитель ворвался в лавку, словно порыв ветра — с грохотом зашумевшей в ушах крови, в ореоле проникшего с улицы света, слепящего привыкшие к полумраку глаза. Хель замер, обернувшись с излишней резкостью, против собственной воли чувствуя тронувшую вдоль позвоночника дрожь. Предчувствия никогда не обманывали хтоника: гость казался опасным. Как бродячая собака, которая, ползая на брюхе, выпрашивает еду, но стоит тебе протянуть ей ломоть колбасы на ладони, клыки вгрызутся в твою же плоть.
Гость был шумным, как грохот будильника по утру, а в каждом его движении таилось нечто, на самом базовом уровне чуждое Хелю, - энергия. И жизнь во всем ее хаосе.
Но что было хуже всего — против всего, что говорили глаза и разум, ростовщик чувствовал упорно расцветающую симпатию. Отшатнувшись, невежливо вырвав пальцы из чужой шустрой руки, Хель замер над одной из витрин, отвел глаза от чужака и позволил себе сделать короткий и рваный вдох, осознать происходящее как можно скорее. Прикосновение еще горело на коже, вызывая мешающие дышать спазмы где-то под ребрами.
Вилл. Ростовщик повторил это имя беззвучно, будто пробуя на вкус и силясь в сочетании букв распознать самую суть их владельца. Потом поднял взгляд. Да, этот мужчина с лицом мальчишки был ему симпатичен, против воли и здравого смысла хотелось ему довериться. Прозвучавшее же имя Сзарин и вовсе заставило забыть о сомнениях. Стоило имени прозвучать, Хель едва ощутимо вздрогнул и поспешно отвернулся.
- Вот как… Сзарин… говорила обо мне? - выдохнул он, не оборачиваясь. Шагнул в сторону, стряхивая пыль с тряпки, что держал в руках, потом спрятал тряпицу под прилавок, но все еще не стал оборачиваться. Вот так, не видя незваного гостя, думать было легче.
- Миллион на двоих?! - вдруг прогрохотало со стороны лестницы, и спустя долю секунды Корвус явился во всем своем синем великолепии, на ходу стряхивая с перьев налипшие вязкие комочки остывшей манной каши. Ярким всполохом подлетев к гостю, птица уселась на прилавок прямо перед ним, склонив голову набок и разглядывая с явным интересом. - Хель, а кто это у нас такой? Я правильно расслышал, он знаком с Криошей? Какой-то он слишком живой для этого…
- Подо…
- Нет, это ты подожди! - птица взвилась в воздух, облетев пришельца, внимательно оглядывая со всех сторон, краем крыла едва не задев щеку. - У нас здесь такое предложение! Миллион! Хель, мы починим холодильник! Если ты не согласен, я забираю деньги себе. Кстати! Друг мой дорогой, я бы даже сказал драгоценный, вижу явную несправедливость твоего предложения: как это миллион на двоих, если нас тут трое? Или ты решил обделить заработком моего старого товарища? Оно и понятно, я свою долю заберу, а Хеля мы, что же, по миру пустим? Нет-нет-нет, я решительно не согласен. Это грабеж!
Корвус метнулся в сторону, ловко уходя от протянутой к нему руки ростовщика, сделал триумфальный круг под потолком и всей своей тяжестью обрушился на плечи товарищу. Хель только поморщился, почувствовав, как смыкаются острые когти.
- Не торопись, друг мой, - выдохнул ростовщик. После громыхания, явно не свойственного обычным птицам, голос хтоника звучал даже слишком тихо и размеренно. - Я предпочел бы выслушать, в чем состоит ваше предложение. Прежде чем принимать решение…
Он кривил душой, несмотря на все возникающие сомнения, какой-то части его натуры упорно хотелось согласиться — уже сейчас. Другая же, более разумная часть, пока побеждала, и движения ростовщика не выдавали бушующей в его голове бури. Может, будь он лучше знаком с проявлениями ментальной магии, сомневался бы сильнее… но Хелю не слишком часто приходилось взаимодействовать с, так сказать, людьми. И бьющая через край энергия последних порой сбивала с толку. Пожалуй, сейчас Хель рад был присутствию Корвуса, умело перетянувшего внимание на себя.
- Да, это ты верно подметил, выслушать надо. А то вдруг что незаконное, - согласился Корвус. - Но смотрю я на этого паренька… Хель, ну разве этот юноша может оказаться преступником? Взгляни, он же просто одуванчик-таки! И деньги! Деньги нам предлагает! А может он еще и умеет холодильники чинить? И нам бы еще плиту, кстати, я, кажется, сейчас сверху что-то не то клюнул… нет! Придумал! Я хочу свою половину и ужин в ресторане. Только представьте, как это будет чудесно: мы втроем, а официанты подносят нам тарелки с омарами, с мидиями, с… что там еще готовят в этих ресторанах? Мечты-мечты! Как близко счастье! Думаю, мы договорились! Пятьсот тысяч мне, пятьсот тысяч Хелю, и ты оплачиваешь нам ужин моей мечты!

Каждый жест. Каждое движение.
Вильям всегда был шумным, но умел отмечать необходимое. Он наблюдал: ведь для того, чтобы показывать свои чувства, не обязательно о них говорить и махать руками. То, как быстро Хель отдёрнул руку от рукопожатия, как изменился его взгляд, когда он услышал имя Сзарин, как он осторожничал, чувствуя подвох в слишком манком предложении. Из мелочей складывается картинка. Из фрагментов рождается образ. Чёрные глаза Вильяма сузились в две небольшие прорези: словно у художника, который внимательно изучал чужое творение. Хель, имея в своём имени два мягких согласных звука, едва ли оправдывал их наличие. Мягким он не был точно. Скорее гармоничным в своей резкости и спокойствии — даже не знаешь, с каким животным его можно было сравнить.
Струны начали натягиваться — обладая эмпатией, Вильям прекрасно чувствовал все грани, которые казались его собеседнику шероховатыми. И будто впадая с ним в резонанс, он успокоился: выпрямил спину, тряхнул головой, откидывая волосы назад, и сбавил голос на два тона. Это простая уловка: либо ты заражаешь своим настроением, либо копируешь чужое. Движения стали спокойно-плавные: Вильям восстановил приятную для общения дистанцию и отошёл к прилавку, где его внимание привлёк варёный череп с инкрустированными зелёными камнями в глазницах. Он встал позади него, прильнул пальцами к подглазничным отверстиям на оголённых скуловых костях и сделал массажное движение. Эта вещь показалась Вильяму изысканной: и Хель прекрасно знал, когда на артефакт ТАК смотрят — верный признак того, что человек за ним вернётся. Едва ли во взгляде Вильяма читалось что-то меньшее, чем обожание и любовь с первого взгляда — к черепу, обходя всё другое, более сильное и могущественное, чем просто дорогая безделушка.
— Да, о тебе Сзарин говорила. Как о лучшем артефакторике, которого она знала: И о тебе, — взгляд Вильяма поднялся к голове огромной птицы, и на губах выступила улыбка — на этот раз добрая. — Я и сам убедился, что твоя харизма сравнима с божественной. Корвус.
Вся эта мишура — такая же, как и его, — не более чем хорошо отрепетированный образ. Было намного важнее то, что Корвус всегда старался быть к Хелю ближе — что говорило о глубокой связи. И от этого даже стало грустно: дома у Вильяма лишь голые стены и телевизор, который иногда шумить для фона. Нет даже золотой рыбки. Эта эмоция — белой зависти — промелькнула на его лице лишь на мгновение, но тут же спряталась за непробиваемой маской вежливости. Внезапной мыслью в голове возникла картина Хеля с прострелянной головой и его птицы, которая в тот момент наверняка уже не будет такой говорливой. Почему эта картина возникла перед глазами, в чём причина, что её так назойливо хотелось выкинуть из головы, Вильям понимал, но не хотел себе в этом признаваться.
К Хелю он не ощущал никакого интереса убивать. И более того — ему не хотелось пачкать руки кровью человека, который должен был ему помочь.
— Я не могу рассказать тебе всю информацию сейчас, — загадочно начал Вилл, прижимаясь подбородком к гладкому темени черепа, вновь обращая взгляд к Хелю. — Но если кратко и на поверхности, то мой заказчик чрезмерно обеспокоен вопросами своего бессмертия. Он бессмертен по своей сути, но его просто изводит мысль, что, как и любого, его возможно убить. И он получил некую вещь…некий артефакт, который даёт возможность после насильственной смерти возродиться. Один раз. Выстоять против пули в сердце, пережить дозу смертельного яда и прочее. Он очень берёг этот артефакт. Но его украли.
Вильям тяжело выдохнул, понимая, что первая ступень, на которой можно было споткнуться, явилась миру. Дело тут даже не столько в поиске, сколько в изъятии. А это уже попахивало насилием, притом, обоюдосторонним. И прочим криминалом.
— И дело в том, что этот предмет нужно не только найти, но правильно транспортировать ввиду некоторых особенностей. Он не совсем…статичный!
Вильям очаровательно улыбнулся, погладив указательным пальцем поверхность полированного черепа.
— Увы, но я не могу тебе рассказать всё на берегу. Задание это секретное, как само существование этого артефакта. Именно поэтому ты либо рискуешь, доверившись и согласившись на эту авантюру, узнаёшь всё, а впоследствии получаешь свою награду, либо я ухожу, а ты остаёшься. Мой заказчик платит за риски и молчание. И за молчание даже больше. Слышишь, птица? — задиристо подмигивает он Корвусу. — Если тебе нужно время подумать, пойму.
Хель хорошо помнил, какова на вкус бывает опасность — он слизывал ее с лезвий ножей, обдирал пальцы о ее костяную прочность, задыхался от наброшенной на шею удавки. И сейчас, когда он наблюдал за движениями гостя, вкус расцветал на языке и горечью пробирался в горло. Ростовщик перехватил брошенный тайком взгляд птицы: гляди-ка, как мимикрирует! Хтоник отвернулся, скрывая горечь усмешки. Сам он никогда не умел приспособиться, а потому, вероятно, всегда так ярко замечал попытки других: вот Вилл словно похолодел, стих, змеей скользнул в сторону, выискивая, куда пристроить пытливый взгляд.
Так желал понравиться? Вызвать симпатию достаточную, чтобы Хель согласился взяться за работу… но то, как мгновенно он среагировал, с какой готовностью… это и покоряло, и настораживало. Поспешно вспыхнувшая симпатия, правда, никуда не делась — лишь сгладилась, померкла, как меркнет под чужой ладонью свежая позолота.
- Да, я таков, божественно хорош, - продолжал активно беседовать Корвус, мельтеша у витрин, - а еще ужасно голоден, потому что этот вот, - взмах крыла в сторону ростовщика, - вздумал кормить меня сухим кормом! Представляешь?! Как какого-нибудь попугая! Позор!
Ростовщик, отвернувшись, неспеша перебирал книги на полке. Стоя спиной к посетителю, он мог успешно скрыть возникшее волнение, движения не выдавали ни грамма одолевшего хтоника беспокойства. Дело ему не нравилось… даже не так: дело пахло откровенной скверной. Если искомый артефакт украден, а не, допустим, утерян, риск насилия становится практически неизбежным… Хель не льстил себе: его навыков может быть недостаточно для скрытного проникновения, более того, в моменты, когда он стремился проявить большую осторожность и отмерить каждое движение, собственное тело неизбежно подводило его, предательством отзываясь на волнение. А открытого насилия ростовщик не любил, он в целом старался избегать людей и любых с ними взаимодействий. Бойцом он не был — скорее, историком, исследователем, тем типом дурака, что лезет в ловушки из клятого любопытства.
Но… Да, все же имелись «но»: ему действительно было интересно. Взглянуть на артефакт, наделавший столько шума. Может, даже задуматься над принципом его действия… И еще было «но», призывающее обычно тихую гордость поднять голову и оправдать эпитеты, которыми одарила его Сзарин. Еще одна причина, по которой ростовщик отвернулся.
- Секретное задание! Ты пришел, куда нужно, - согласился Корвус, - Хель очень хорошо обращается с артефактами, нас всего-то пару раз чуть не пришибло, когда он что-то там неправильно активировал. Можно даже сказать, он крайне удачлив и ошибается редко. Чего это вы на меня так смотрите? Разве я похож на того, кто станет много болтать? Я всегда краток и говорю строго по существу! Итак, подведем итоги: ты предлагаешь крайне сомнительную авантюру, требующую скрытности и применения умений моего замечательного товарища. Не представляю, как что-то, что угодно, может пойти не так. А ты что думаешь, Хель?
Ростовщик наконец обернулся, сгорбился над прилавком, опершись о столешницу руками, скривил губы в подобии улыбки, вероятно, не слишком приятной.
- Понравился череп? - тихо заметил хтоник, - хороший выбор, вы заметили руны у основания нижней челюсти? Они делают вещицу чем-то вроде талисмана для наемников и убийц… - Беззлобно усмехнувшись, Хель выпрямился, прямо поймав взгляд Вильяма, и добавил все так же тихо и без малейших признаков опасения или угрозы, - правда, как продавец, должен признаться, что это всего лишь сказка. Череп не представляет иной ценности, помимо эстетической… возьмите его себе, в знак нашего будущего сотрудничества. Я согласен помочь вам, но должен кое-что уточнить: в том, что касается поиска артефакта, его перемещения, распутывания любых ловушек и прочего… можете всецело рассчитывать на меня. Но я склонен избегать открытых столкновений, боец из меня весьма посредственный. Думаю, вам следует понимать это, если мы станем работать вместе.
- Хель, ты…
- Да, я так решил, - ростовщик быстро взглянул на птицу, и Корвус, встрепенувшись, взлетел под потолок, - а ты останешься здесь, приглядишь за лавкой, пока я буду отсутствовать.
За сказанным таилось гораздо больше, чем могло показаться, и птица встревоженно нахохлилась, взглянула на гостя уже немного другим, более серьезным взглядом. Хель редко оставлял птицу здесь, в основном, только когда дело представало действительно опасным и работать нужно было в команде с кем-то. Несмотря на явное неудобство для себя, он не рисковал повергать друга опасности. Впрочем, Вилл мог заметить, что о деньгах Хель не говорил, будто и вовсе забыл об обещанной награде — в самом деле, гонорар был интересен ростовщику в последнюю очередь. Он склонен был быстро забывать о наличии у себя денег, а потом удивляться, обнаруживая их в кошельке.
- Вы также можете рассчитывать на мое молчание, вот уж с чем не возникнет трудностей, - снова смешок, но в глазах Хеля веселости не было, - и разумеется, даю слово, что приложу все усилия к тому, чтобы мы оба остались в живых.
Он почти пожалел о том, что позволил последнему обещанию сорваться с губ: в нем таилось куда больше, чем можно было представить. Как открытое предложение помощи в опасный момент, так и затаенная угроза, вернее, предупреждение. Если сомнения хтоника оправданы, он действительно приложит все возможные усилия, чтобы остаться в живых. И еще одно мог понять Вилл по брошенному в него взгляду — какую бы симпатию Хель ни питал к человеку, она не становилась для него поводом проявить безоговорочное доверие.

Удар. Ещё удар. Сердце заходится галопом по грудной клетке, дыхание спирает. Тело откликается на зов чувств: оно всё обращено к собеседнику. Хель сказал что-то не так, сделал что-то не то — чем ещё можно объяснить столь необычную реакцию, вновь переменившую настроение его гостя?
Глаза Вильяма широко распахнулись. Сначала в них читалось искреннее счастье и восторг — так обычно смотрят только дети. Когда им даёшь подарок или обещаешь сводить на качели — их взгляд полон восхищения и радости. А потом наваждение угасает: остаётся не то стыд, не то смущение. Зрачок, чуть расширенный от полутьмы, царившей в лавке, захватывает собой почти всю радужную оболочку. Вильям замирает: и в этом нет ни игры, ни актёрства. У него вытягивается лицо, брови ползут наверх, сначала он часто моргает, а потом останавливается на лице Хеля, будто тот говорит что-то совершенно поразительное. Его пальцы на мгновение сжимаются на нижних сводах глазниц у черепа, а собеседника он буравит взглядом настолько долго, что это уже кажется неприличным.
Ментальная магия ослабляет свои путы. Будто лошадь, которая вырывается у наездника, порвав уздечку и скинув с седла. И мчится вдаль: от неё на горизонте остаётся едва заметное пятнышко и только. Магия рассеивается так же незаметно, как и пролезает Хелю в голову. Он этого не заметит, если не прислушается к себе.
Вильям сам её отпускает. Добровольно.
— Ты серьёзно? — вырывается у него, и взгляд вновь падает на украшенный варёный череп. — Бесплатно? Я не могу, я так не привык.
Вильям спешивается: ему стыдно до кончиков ушей. Он отрицательно качает головой, потупив взгляд, и делает шаг назад. «Безделушка» даже издалека не выглядит дешевой вещью. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять смущение.
С прошлым из детского дома Вильям вынес свои законы выживания. Хочешь что-то? Укради. Отбери. ЗАСЛУЖИ. Или что актуально сейчас — заработай. Отдай плату. Соверши честный и равнозначный обмен.
— Я не привык быть должником, — искреннее отвечает Вильям, вновь обратив взгляд на Хеля. — Но я благодарен за предложение. Спасибо.
На губах выступает кривая улыбка. Больно. До жути больно: знать, что будешь вынужден убить человека после того, как это задание закончится, а он проявляет к тебе доброту — в своей специфичной манере, но доброту — Вильям трактует этот жест именно так и не видит иных мотивов. Блауз выравнивает дыхание и опускает подбородок. В воздух просачивается неловкая тишина, будто два собеседника ступили куда-то не туда и повернули не на ту тропу.
В этой тишине Вильяму кажется, что он может услышать шелест перьев, когда Корвус переминается с ноги на ногу. Он вновь глядит исподлобья на Хеля, будто хочет хорошо его запомнить.
То, как он сутулится при походке, как несуразно улыбается — один уголок губ поднимает выше другого. Опирается на трость, пребывает в какой-то своей задумчивости: вид у него экстравагантный и шальной, но взгляд вдумчиво-умный. В сувенирной лавке он сам выглядит как сувенир — очень органично и забавно. В некотором роде на редкость Хель похож куда более, чем многие вещи на его витринах.
— Я вернусь за ним после нашего путешествия, — щебечет Вильям, обращаясь к Корвусу и напоследок касаясь черепа в области зубов. — и привезу килограмм мидий этой прекрасной птице.
Он заставляет себя вновь надеть старую маску, хотя совершенно не скрывает то, что компания в виде Хеля и его питомца ему приятна. Однако пришёл он сюда за делом — и вскоре к нему возвращается:
— Я не могу пообещать тебе, что наше путешествие…будет безопасным. Но могу пообещать другое: пока ты делаешь свою работу, я делаю свою, — его рука коснулась кобуры пистолета под плащом, продемонстрировав оружие. — И это будет использовано только в самом крайнем случае. Боюсь, что на пути нам могут встретиться не только ловушки, но и…
Вильям тяжело выдохнул, предчувствуя недовольный взгляд:
— Но даже для этого случая у меня много других орудий. Бездна очарования, разумеется! — шутит он, подмигивая Корвусу.
Уж кто обаянием можно сворачивать горы, так это большая хищная птица. Вильям почти с ней не разговаривает и никак не реагирует на всплывающие об их путешествиях детали, но не может отказать себе в том, что и размер, и разум впечатляют. Но сегодня ему нужен некто другой. Тот, кому он протягивает локоть, чтобы телепортироваться в одно и то же место вместе.
— Возможно, ты пожалеешь, Хель, но скучно тебе не будет точно! 
Отредактировано Вильям Блауз (2022-08-05 14:48:46)
Хель понимает: он сделал что-то не так. Даже Корвус, уже готовый было разразиться очередной тирадой из разряда «ты нас по миру пустишь», замолкает, переводя взгляд на гостя: энергия, расплескиваемая Виллом так щедро меняется, как циклон стихает, уступая место штилю. Хотя на спокойствие шпиля рассчитывать не приходится. Хель плохо разбирается в человеческих эмоциях, но искренность узнает — и сам едва заметно расслабляется. Ему было бы трудно объяснить это чувство, возникшее, словно снятием невидимой удавки с шеи.
Ростовщик желал лишь сделать подарок, ему это, казалось, ничего не стоило. В какой-то мере он воспринимал это выгодной сделкой: он не был привязан к этой вещице, а Виллу она вроде бы очень понравилась… но взамен, похоже, Хель получил что-то большее, чем просто удовольствие от пристроенного антиквариата. Даже смутившись, ростовщик чуть отвернулся. Наконец догадался, что его посетитель не привык получать подарки.
- Да забирай уж, - махнула крылом птица, явно раздосадованная этим обменом взглядами, в котором мало что было понятно, - у нас таких еще шесть штук… было где-то, - кривил душой, но чего ради красного словца ни приврешь, - отлично будет смотреться на полке, прямо рекомендую. Поставь и любуйся. Я, конечно, гораздо лучше, но не каждому же дураку такое счастье, мне бы о своем позаботиться, - кивок головой в сторону товарища.
Хель вышел из-за прилавка, перехватив поудобнее трость. Сейчас вещь в его руках могла показаться лишь безобидным аксессуаром — особенно, когда ростовщик так опирался на нее, делая шаг. Бледные пальцы коснулись оперения Корвуса, мягко погладили с невысказанной грустью, будто своеобразно прощаясь.
- Как вам угодно, вернетесь за черепом позже — в любом случае, теперь он ваш. Пожалуйста, не считайте, что вы что-то должны мне, это всего лишь… безделушка, от которой я рад избавиться. На него давно уже нет покупателей.
Говоря, даже не смотрел на Вилла, не позволяя понять по взгляду правдивость слов. Корвус, прикрыв глаза, ткнулся клювом в подставленную ладонь — столь редкий момент тишины, прежде чем глаза птицы возмущенно распахнулись, и он взлетел, избегая постыдной ласки. Лишившаяся опоры ладонь слабо дрогнула и вернулась на набалдашник трости.
- Если вернусь, починю холодильник, - улыбнулся Хель птице и сам не сразу понял, что заменил «когда» на «если» в своем неуклюжем обещании. - Постарайся не развалить лавку, хорошо?
- А ты только попробуй сдохнуть, - проворчал в ответ товарищ, отворачиваясь. Но во взгляде, что птица бросила на принесшего столько дурных пре6дчувствий посетителя, мелькнуло возникшее подозрение. От Корвуса не укрылось настроение ростовщика, они слишком хорошо знали друг друга.
- Жизнь скучна без риска, друг мой...
Хель же приблизился к гостю. Кривую улыбку на лице хтоника едва ли можно было назвать приятной, но она стала и вовсе похожа на оскал, когда Вильям демонстрирует оружие.
- Полагаюсь на ваше очарование, - выдохнул ростовщик со смешком, сильнее сжимая трость.
- Килограммом мидий ты от меня не отделаешься! - синим всполохом кидается ближе птица, крылом задевая чужака, - слышишь? Ужин в ресторане! Не меньше!
Невысказанная просьба или угроза повисает в тишине, Корвус вновь поднимается под потолок, чтобы уже оттуда наблюдать за порядком. Чувствует: что-то не так, но если уж Хель решил, ничего не поделаешь. Остается только смириться и ждать, когда товарищ вернется — с очередной историей, которую придется клещами вытаскивать. Наверняка забудет про холодильник. Корвус уже представлял, как вернувшийся ростовщик будет взирать на развалившуюся технику с самым беспомощным видом, а потом поднимет взгляд на друга и спросит: а что это случилось?
Хель осторожно взялся за локоть Вильяма — крепко, но настолько аккуратно, что касание показалось бы невесомым, позволяя направить во время перемещения. Какая-то часть его натуры, та, что выла, сдирая ногти о камень, жалась спиной к чужим окровавленным костям в поисках спасения от боли, - эта часть и сейчас протестовала, призывала одернуть ладонь, забыть о госте, забыть о вспыхивающем под кожей против всякой воли любопытстве… забыть о приязни, которую вызвал этот вне всякого сомнения опасный человек.
- Идите уже, - проворчал Корвус под потолком и отвернулся, не желая лицезреть исчезновение. Только взглянул на так и оставленную в коробочке брошь, безмолвно ждущую реконструкции. Скорее всего, ей тоже суждено стать подарком.
Ворчание Корвуса заставляет Вильяма улыбнуться. Он звонко смеётся на нелепое требование сводить огромную говорящую птицу в ресторан и прикрывает рот свободной рукой. Смешная гротескная картина так и встаёт перед глазами: шикарная утончённая зала, в ней Вильям, экстравагантно-странный Хель с волосами, зачёсанными назад на манер высшего общества, и на третьем стуле, на спинке, разрывая принесённое блюдо когтистыми лапами, восседает Его Высочество Корвус. И все они вместе, за одним столом, заказывают лангустины, мидии и слушают классическую музыку под возвышенные беседы о политическом строе.
— Да разве я против? —усмехается Вилл, зажимая в локте ладонь Хеля. — В гостинице, куда мы направляемся, ресторан на первом этаже. Заметь, не брать тебя решил не я.
И «пойманного в хватку» Хеля слабо толкают локтем под ребро, акцентируя на нём внимание его питомца. Вильям подзуживает Корвуса ровно так же, как Корвус подзуживает его. И в этом есть своя приятная лёгкость. По крайней мере, для одной из сторон.
— Так что все претензии по нужному адресу. Пока! — с широкой улыбкой Вильям вытягивает руку пятернёй и машет на прощание. — И тебе пока, Гамлет.
Он переводит взгляд с заметным сожалением на череп, оставленный лежать на витрине: он манко поблёскивает двумя зелеными камнями в глазницах и прохладной гладкостью — его приятно касаться. И это остаётся последним, что Вильям видит в лавке после того, как они вместе с Хелем попадают в портал, который должен перенести их к жаркому Кроксу. Вместе с ощущением, что они оба уже никогда сюда не вернутся.
И это почти получается. Их выбрасывает из воздуха там, где в паре метров от вулкана раскидывается большая площадь рынка. Тут непомерно жарко, в воздухе витает смесь частиц от пыли, магмы и морского воздуха. Ветер треплет волосы: он сильный, прохладный, но едва ли остужает тела в такую ужасающую жару.
— Я не сказал тебе, — начинает Вильям и, не отпуская ладони Хеля из сжатого локтя, ускоряет шаг в сторону вулкана, — этот артефакт — существо живое и очень ранимое. Поскольку ты согласился быть моим помощником в этом нелегком деле, я считаю нужным рассказать тебе всё, что знаю. А идём мы туда.
Вильям показывает жестом на стоящий неподалёку от вулкана гостевой дом: он высокий и достаточно заметный, с множеством графических рисунков на стенах, пользуется славой у тех туристов, кто посещает Харот во имя жажды пощекотать нервы. Где ещё в мире ты можешь одновременно подвергнуться нападению хтонов под жерлом действующего вулкана, дерзнуть соседствовать с учёными, не чуждающихся экспериментальной магией над людьми? Таких мест на пальцах пересчитать. И всё равно такое убежище лучше, чем ничего.
Блауз тащит Хеля под руку по привычке, кажется, совсем забыв о том, что Хель не пойманная жертва и идти он может сам. Хотя со скоростью, с которой пересекает улицы Вильям, поспевать за ним проблематично — тем более, когда тебя волочат. Но куда до таких мыслей, когда во рту — поток информации?
— Му-шу — это животное, искусственно выведенное несколько лет назад для сохранения редкого свойства передавать одну из своих жизней. Когда-то, пять лет назад, учёные создали существо — гибрид карливого плютура и дикого неразумного дракона, и у двоих особей-потомков случайным образом нашлась одна из положительных мутаций. Это выявилось, когда один из учёных тяжело заболел онкологией, и находясь на грани смерти, он получил от существа, за которым ухаживал, «в дар» вторую жизнь. При этом само животное потеряло часть магических свойств и стало слабым. Таких особей, с редкой мутацией, стали разводить, на генетическом уровне закрепляя нужный признак в нескольких популяциях. Но проблема в том, что большая часть му-шу погибает в младенческом возрасте. И вторая проблема — они сами решают, кому и когда «отдать» жизнь. Частыми были случаи, когда му-шу, будучи котятами, оживляли принесённых им в качестве еды мышей, рыб или куриц и становились для учёных «бесполезным материалом». До года му-шу не понимают, что делать с магическим потенциалом, а уже позже становятся достаточно умными, почти как мы. Доживают, правда, в лаборатории в лучшем случае две особи в год. И их не продают, а исследуют. Но мой заказчик личность баснословно богатая и известная в широких кругах. Он подкупил одного из работников лаборатории. Му-шу для него украли.
Вильям при входе в гостиницу почти с порога арендует два номера на три ночи и протягивает одни из ключей Хелю. Именно к нему они сейчас и направляются:
— И оно выращивалось в изоляции от всех остальных существ, чтобы исключить возможность потерять «полезное свойство».
Очаровательно улыбнувшись администратору на прощание, Вильям разворачивается к лестнице и направляется к третьему этажу, где располагаются их номера, чтобы продолжить разговор уже внутри. За чашкой чая или бокалом вина — как пойдёт.
— Но подвело моего заказчика то, что у него чрезвычайно длинный и хвастливый язык. Он нахвастался, и му-шу украли. Не прошло и года.
Блауз грохнулся на угловой диван, с любопытством изучая реакцию Хеля на его повествования, и закончил:
— Мне известно, что группа этих людей организуется тут, в Астре, в подземельях около вулкана Крокс. И мне удалось добыть одно из воспоминаний их бывшего, ныне покойного, члена. Если готов увидеть, — Вильям поднимает указательный палец вверх и шутливо улыбается, — будь добр — предоставь свои мозги. Наклонись.
Хель отгоняет шальную мысль, что видит лавку в последний раз, но боль, вонзившуюся под ребра, не замечать труднее: кажется, на обратной стороне век отпечатался образ полутемной комнаты в блеске витрин и спрятанных в них сокровищ, с Корвусом, отвернувшимся так, будто почувствовал страх друга, только еще не успел осознать. Ростовщик запоздало думает о том, каково придется птице без него. Он-то уже с трудом представляет свою жизнь без Корвуса и производимого им шума.
Но стоит вернуться к прозе: мягкий полумрак сменяется жаркой яркостью, новый вдох обжигает горло. Воздух Крокса на языке оседает частицами пыли, касается кожи вулканным пеплом, едва не оставляя след. После перемещения Хель всегда чувствует головокружение, сильнее сжимает тростью ослабевающими пальцами, но сейчас перевести дух ростовщик не успевает. Спутник не дает ему ни опомниться, ни как следует оглядеться, уже утаскивая вперед.
Хель молчит, одновременно сосредоточившись на двух самых важных действиях. Обратившись в слух и пытаясь вместе с тем не упасть, что дается с трудом, пока ростовщика волокут, словно соломенное пугало. Рыночная площадь обступает жаром чужих тел, Хель с силой опирается на трость, едва переставляя ноги. Голос Вилла доносится как сквозь толщу воды, но ростовщик не признается даже под пытками в том, как тяжело дается каждое движение в потоке людской толпы: случайные прикосновения к обнаженной коже, тычки чьих-то локтей, ощутимо бьющие в спину. Корвус всегда посмеивался, что Хель, не терпя прикосновений, носит свой дурацкий едва прикрывающий тело плащ.
Хтоник помнит этот город — он бывал здесь пару раз, но никогда не задерживался. Слишком шумно, слишком жарко, и одежда неприятно липнет к влажной от пота коже. Привкус моря в воздухе не спасает, лишь заставляя мечтать о воде и ее прохладе, хотя купание в местном источнике не принесло бы облегчения. Ростовщик поворачивает голову вслед за жестом провожатого, но почти ничего не видит, застигнутый врасплох как полученной информацией, так и собственной слабостью. Как всегда, последнее и стыдно, и больно.
Только когда Вилл сбавляет шаг, а после и замирает вовсе, общаясь с хозяином гостиницы, Хель выдыхает. Позволяет себе ненадолго сгорбиться, ждет, когда исчезнет предчувствие судороги, стиснув зубы и зажмурившись. Если Блауз сейчас посмотрит на своего напарника, может и засомневаться, не помрет ли ростовщик без всяких чужих усилий.
Но когда Вильям вручает ключи, Хель уже спокоен, дрожь и напряжение скрыты от посторонних глаз, только пальцы до белоты цепляются за трость. Преодоление лестницы оказывается испытанием, и Хель почти счастлив свалиться на диван: слабость мертвенной бледностью разливается по и без того не тронутой загаром коже, и узор чернил будто пульсирует в такт ускорившемуся сердцебиению. Теперь хтоник может подумать, переварить все, что он слушал внимательно, но не успел осознать, уложить в голове.
- Живое существо, - выдыхает хтоник. Голос кажется хриплым и тише, чем до этого. Пальцы снова сжимаются на трости, но Хель не озвучивает ни ярости, ни обиды. Скорее, он ни капли не удивлен, в какой-то мере ожидая, что все окажется гораздо хуже и сложнее. Он не смотрит на Вилла, закрыв глаза, сведя брови к переносице: живое существо. Не камень или статуэтка, но животное. Вероятно, разумное животное, если он правильно понял слова Блауза.
Существо, ставшее результатом исследований и генетических мутаций — а теперь игрушка для богача. Хель не дает эмоциям отразиться на лице, но жалость горечью наполняет рот. Всего одно мгновение он думает о том, что был такой же игрушкой, когда его, еще без магического клейма, гнали охотники. Тот страх до сих пор преследует во снах, то чувство беспомощности… чувство, что ты вовсе и не разумное существо, а лишь трофей, который можно сдать за награду.
Но он дал слово, и все, что теперь может обещать самому себе — сделает все, чтобы животное не пострадало. Не тогда, когда это будет зависеть от хтоника, сколь бы ничтожна ни была эта сделка с совестью.
Когда Хель оборачивается к напарнику, ничто не выдает его чувств, да и как выдать то, что сам едва ли способен понять? Из всего доступного спектру эмоций разве что резкость движений рук да кривизна улыбки, не прибавляющей ростовщику очарования. Он лишь позволяет себе взглянуть на Вильяма — тяжелым внимательным взглядом, будто дописывая абзацы в мысленно составленном на паренька досье.
- Показывай, - соглашается Хель и наклоняет голову, против воли едва заметно сжимается, боясь прикосновения. С этим он ничего сделать не может, но мысленно делает заметку: парень менталист. Насколько хороший, оценить Хель не может, как и объяснить своих подозрений. Но каждому своя ноша.

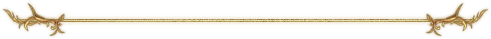
Это было даже забавно.
Образ равнодушного Хеля стирался на глазах, ибо равнодушным, как оказалось, он не был. Это читалось по движениям, и в особенности — в нелюбви к прикосновениям. Что-то было в этом от подростка. От замкнутого и нелюдимого подростка, который боится быть к кому-то близок. Телом, а ещё важнее — душой. Весь обвесится агрессивной атрибутикой, кожей, будет демонстрировать миру мрачные узоры на теле, но в действительности всё это не более чем защита от окружающего мира. Самая большая разница между Хелем и Вильямом заключалась в том, что первый не хотел быть раненым людьми, а второй был готов разбить себе сердце в крошево, лишь бы чувствовать все грани жизни. Потенциально разный подход к собственным чувствам и к людям. Забавно, как в одной вселенной так запросто могут встретиться альтер-эго друг друга.
В горле у Вильяма перекатывался смех. Его не так смущала бледность собеседника (кажется, Хель всегда был бледным и выглядел так, будто готов откинуться в могилу), сколько он видел жесты зажима от неприятия чужих рук. Это его неимоверно веселило, и Вильям не удержался от шутки. Наклонился ближе к чужому уху, чтобы добить нового знакомого окончательно:
— Не бойся меня. Я не кусаюсь, если партнёр против.
Остаётся надеяться, что от стыда кровь прильнёт к голове Хеля быстрее, и он будет чувствовать себя лучше.
А пока Вильям вернулся в прежнее положение и приложил к его лбу палец, вырисовывая на месте мышцы гордецов узор магической вязи. Она капала с руки жидкой чёрной субстанцией, стекая по спинке носа и области под глазами, попадая под манжеты рубашки и пачкая обладателя магии. Реальность начала стираться, а вместе с ней очертания комнаты. Чёрная субстанция впитывалась в кожу. Разум захватывало ощущение проваливания в обморок с мерцанием серых мушек под веками.
Сначала была пустота с одним единственным очертанием глаз — они у Вильяма были почти такие же чёрные, как ползущая по пространству тьма. Затем его пристальный взгляд стал отдаляться, и мазками красок вырисовывалась новая реальность вокруг. Где в теле Хеля не было ни усталости, ни боли: оно чувствовалось как идеальное и послушное, лишенное каких-либо недостатков, невесомое, словно пух.
В этом месте они уже были. Проходили его совсем недавно, как только телепортировались в Астру после пребывания в лавке. Продуктовый рынок под покровом ночи выглядел будто иллюстрация к старой восточной сказке. Мощёная дорога была выложена большим грубым камнем, по правую и левую сторону от себя можно было увидеть бесконечные ряды однообразных пустых палаток. Рядом — подвесные потухшие фонари. Посередине дороги шёл человек. Он был плотно укутан в белые длинные одежды и нёс с собой небольшую кожаную сумку наперевес. В этом пространстве он не видел ни Вильяма, ни Хеля, хотя они стояли совсем недалеко. Он прошёл мимо двух бесплотных духов по центральной дороге, даже не обернув головы, а потом завернул в одну из узких улочек.
Вильям жестом сказал Хелю следовать за ним и сам направился догонять спешащего человека.
Он шёл около десяти минут, пока на другом конце торговых рядов не настиг компанию из пяти путников. Один из них, высокий коренастый мужчина с квадратным лицом, тягал повозку с большой клеткой, которая была прикрыта толстой тёмной тканью.
— Доминик.
— Тен. У вас получилось украсть её?
— Да.
Мужчины обменялись кратким приветствиями, и самый первый присоединился к компании. Три девушки в длинных тёмных одеяниях с закрытыми наполовину лицами и один рыжеволосый парень с крупными кудрями шли следом, отставая: и не смели встревать в разговор.
— Это будет великая жертва, — начал высокий коренастый мужчина, заглядывая через плечо на клетку с навесом. — До сих дней Культ Чернобога приносил в жертвы разумных существ, но принести сразу две жизни... Такие, что демиурги не видели сами, — это будет большая честь и большая благодарность. Наши сёстры и братья, давно позабытые на Хароте, должно сделать что-то стоящее.
Мужчина, названный Домиником с минуту молчал, поравнявшись на ходу с клеткой. Порывы вечернего ветра поднимали завесу тайны. Под тканью можно было увидеть шестипалые толстые лапы существа немногим большего, чем кошка. Длинный метровый хвост с пушистой кисточкой на конце, который прорывался через железные прутья и пытался исследовать местность. В одну секунду он задел коленку одной из шагающих девушек, за что хвост сразу же получил болезненный и грубый удар по позвонкам. Существо в клетке сжалось от страха и жалобно мяукнуло.
— Женева, что не так с тобой? — возмущенно воскликнул рыжий парень, который до сих пор плёлся сзади и не показывал головы.
Высокая статная девушка на его восклицание обернулась и высокомерно повела бровью:
— Ну и что? Этот му-шу уже не жилец. А я до одури не перевариваю, когда твари трогают меня.
— И всё же, в жертву приносят его, а не тебя. Ты даже издалека не выглядишь разумной.
Начавшуюся громкую перепалку прервал тягающий клетку мужчина: он высоко поднял правую руку вверх, и оба ссорящихся мгновенно замолкли. Доминик ладонью поправил соскользнувшую ткань обратно: он и Хель могли увидеть два больших голубых драконьих глаза, прежде чем их скрыла пелена завесы.
— Нам будут нужны все. Потому что если что-то пойдёт не так…
Тягающий клетку мужчина вопросительно посмотрел на присоединившегося к ним товарища. Вильям, идущий около Хеля всё это время, стыдливо прикусил губу и скосил глаза вбок, будто наперёд зная, что об этой «особенности транспортировки» он многозначно умолчал.
— Когда это существо на свободе и оно пугается, то теряет привычный облик и превращается в одного из своих предков. В дракона. Всё может закончится тем, что не мы его — а оно нас отправит к демиургам.
Компания из плетущихся сзади четырёх человек беспокойно подняла головы на своего лидера. Их напряжение просочилось в воздух, и в молчании угадывалась читаемая в воздухе тревога.
— Значит, будут все, — строго ответил Тен, не видя в этом препятствий. — Мы организуем такой праздник, что существо отправится к демиургам сытое, счастливое и довольное. Но на крайний случай у нас будут те, кто поможет его сдержать.
Яркая вспышка огня — и облик ночного рынка Астры теряется в затянувшемся тумане, который охватывает всё. Возвращаются очертания комнаты: мягкий диван, стеклянный кофейный столик напротив и окно с видом на верхушку вулкана Крокса. Вильям держится за голову: сложная ментальная магия забирает у него слишком много сил, и по ощущениям — мозги будто выворачивает наружу.
— Я совсем забыл об этой маленькой особенности превращения в дракона! —ласково щебечет он, чувствуя себя неловко и отводя взгляд от Хеля в сторону. — Но зато теперь ты знаешь!
Хель знает, чувствует каждой клеточкой своего тела, будто его препарируют — настолько много во взгляде напарника понимания. Но не того, что позволяет склоняться поближе в разговоре по душам, а издевательского понимания исследователя, чьи опыты оправдались. Чужая близость обжигает кожу, как сказанные слова — жалят куда-то под ребра, исподтишка. Хелю требуются два удара сердца, чтобы осознать шутку, еще один — чтобы отреагировать, побледнев еще больше и воззрившись на собеседника расширившимися глазами.
Наверное, ростовщик был бы меньше задет, если бы в обычное будничное утро Вильям вдруг протиснулся в окно его лавки с предложением поговорить «о боге нашем, Энтро».
- Я тебя не боюсь, - процедил сквозь зубы хтоник, подавляя потребность отшатнуться. Прикосновение не причиняет физической боли, но лоб все равно покрывается испариной, а руки — гусиной кожей. Капля чернил зудом ползет вдоль спинки носа, и ростовщик против воли впивается в глаза мага напротив. Если бы взглядом можно было убить, Хель, вероятно, стал бы лучшим из наемников.
Сознание постепенно затапливает тьма, вязкостью дурных снов оседая на языке, последними гаснут глаза Вильяма, заставляя вспомнить истории о подземных туннелях и таящихся в них чудовищах. Но пробуждение не получается назвать неприятным, в некоторой мере Хель чувствует удовольствие избавленного от тяжести тела сознания. Яркость картинки вокруг навевает опасения в степени одаренности напарника: хтонику всегда было не по себе в обществе менталистов.
Впрочем, ростовщик отгоняет свои сомнения — сейчас всем его вниманием завладевает проигрываемое воспоминание. Как именно Вильям заполучил его, думать не хочется, воображение рисует картины, полные хруста костей и сдавленных криков, хотя Хель и подозревает, что менталисты работают иначе. Может, настолько иначе, что украсть воспоминание им все равно что ловкачу в толпе срезать кошелек.
Впрочем, чем дальше, тем сложнее Хелю было сдержать растущее раздражение. Казалось, с каждым шагом, который он делал, увеличивалось количество вещей, которые «забыл» озвучить напарник. А большинство этих вещей ростовщик предпочел бы узнать в самом начале, а не тогда, когда поворачивать назад уже не позволит гордость. Процессия культистов, а в том, что это были культисты, хтоник не сомневался, обсуждала предстоящее жертвоприношение как готовящийся банкет, а Хель мог только беспомощно наблюдать за жалкими трепыханиями пойманной в клетку жертвы.
Дракон… скорее, маленькое ящероподобное существо размером с кошку, вызывало иррациональное желание схватить и утащить в безопасное место. Сама суть происходящего, - то, что жизнь несчастного существа при любом раскладе оказывалась разменной монетой, - ощущалась как приставленный к горлу нож. Безнадежность удавкой сдавливала горло, когда Хель вспоминал, что вызволить дракона из клетки нужно лишь для того, чтобы вернуть в клетку другую. Пальцы против воли сжимались в кулаки, тошнота застревала в горле.
Когда воспоминание рассеялось, Хелю показалось, будто он выныривает из вязкого сна, только чувство, будто он безнадежно запачкался, никуда не пропало: дело… нет, о простых сомнениях уже не шло никакой речи. Ростовщик подозревал, что если взять немного времени на размышления, ему удастся составить целый список вещей, призывающих не то что отказаться, но и вовсе вспороть нанимателю горло. Вот только времени как раз и не было — то, что существо не просто украдено каким-то богачом, так же пожелавшим разменять чужой жизнью собственную, а культом для кровавого обряда… все это добавляло к череде проблем еще и таймер, призывающий поторопиться.
Виллу, похоже, тяжело далась магия, Хель замечает это не только в том, как парень держится за голову, чуть заметно меняясь в осанке, но и в том, какой усталостью полнится чужой взгляд. Всего миг, - но ядовито сладкий миг, исполненный искушения и затаенного гнева, - хочется вскинуть руку, прижать острый наконечник трости к бьющейся венке на шее напарника и предателя в одном лице…
— Я совсем забыл об этой маленькой особенности превращения в дракона! Но зато теперь ты знаешь!
Может, дело в том, что парень выглядит пристыженным. Или в том, что ненавидеть и злиться на него все равно не выходит. Хель поднимается, - с некоторым трудом, отступает к столу и наполняет бокал водой из стоящего рядом кувшина. Потом протягивает Вильяму.
На самом деле, то, что существо может превратиться в дракона, кажется меньшей из всех их бед.
- Есть что-то еще, о чем ты забыл рассказать? - резче, чем собирался, спрашивает ростовщик. - И о какой второй жертве говорили культисты?
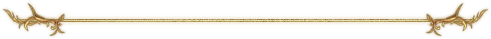
Магия оставляет следы. 

Неважно, новичок ты в ней или искусный мастер. Важно количество ошибок, промахов и то, чем ты себя выдаёшь, когда так хочется остаться невидимкой. Вильям знал свои слабые стороны наизусть: магическая вязь отнимала у него слишком много сил, приводя в состоянии выпотрошенной курицы — некоторое время он был бессилен и едва ли представлял опасность. Скромная плата мастера: хочешь «передать» красиво и точно, хочешь, чтобы зритель не только видел картинку, но и чувствовал дуновение ветерка и запах вечернего воздуха от моря — плати своей кровью. В этом отношении простая «чувственная» магия проще: чтобы возбудить в ком-то нужные чувства, нужно лишь их самому хорошенько вспомнить. Совсем другое — воспоминания. Материя сложная, многогранная и требующая сил.
Иное дело было, когда, помимо ментального мага, в игру вступал кто-то второй, кого было нужно оставить в живых. Ничто не проходит бесследно и не испаряется в никуда. Хель это почувствует совсем скоро. Когда улицы ночного рынка навестят его в ночных кошмарах. Когда он раз за разом попробует украсть клетку, освободить животное, но руками будет цеплять лишь голый воздух. Или возвратясь в лавку, он вдруг внезапно увидит знакомый образ — на долю секунды — невысокого темноволосого гостя в красных перчатках, который радушно улыбнётся и пожмёт ему руку в качестве приветствия. Он испарится мгновенно: будто дефект памяти, вдруг внезапно решивший врезаться в голову.
Но в действительности это отпечатки пальцев. Почти такие же, как на стакане с водой.
— Да что ты! Не нужно, спасибо. Благодарю.
Вильям берёт стакан трясущейся рукой. Ему опять стыдно и опять неловко: он умеет принимать чужую, даже самую минимальную помощь — но от чего-то ему хочется шарахнуться каждый раз, когда Хель относится к нему по-человечески. И это заметно: он видимо сжимает плечи вперёд, сутулится, будто старается казаться меньше. Даже этот ничего не значащий акт заботы со стаканом колеблет в нём нечто, не поддающееся идентификации. Наверное, по этой причине те, кто держит в деревнях крупный рогатый скот, не привязываются к коровам, которые идут на убой. Запястье кошылет с такой силой, что вода расплёскивается из краёв стакана аккурат на чистый бежевый коврик под ногами, брюки Вильяма и его рубашку. Он жадно льнёт к воде, стараясь маскировать слабость, и выпивает до дна.
Он не смотрит Хелю в глаза, отчего-то чувствуя, что последний смотрит на него слишком пристально. И всё видит: а Блауз донельзя не терпит выглядеть слабым. В какой-то момент ему кажется, что перед Хелем он как на ладони. Но совесть затухает быстро: будто подгоняемая прочь смачным ударом сапога. Вновь возвращается улыбка. Вымученная, дружелюбно-фальшивая.
— Я не сказал тебе о том, что их церемония состоится послезавтра, ночью. Есть некая взаимосвязь между праздниками и жертвоприношениями. Дата и это воспоминание —то, что смог отдать мне человек по имени Доминик перед смертью. Это его ты видел в самом начале. Но воспоминание оборвано: он не успел «показать» мне дорогу до их убежища. Его мозг умер быстрее, чем я успел в нём покопаться, — с сожалением ответил Вильям и виновато опустил голову. — Поэтому на старте я имел только это.
Будто прямо сейчас он провинился перед своим помощником.
— Я… признаюсь, не думал о второй жертве. Сначала мне показалось, что имелось в виду две животные жизни, но сейчас я понимаю, что ты можешь оказаться прав. Будет кто-то ещё, но об этом информации у меня, к сожалению, нет. Зато есть кое-что получше.
Вильям отклоняет голову назад, обращаясь в слух. Воцарившаяся в комнате тишина будто даёт ему добро продолжать разговор дальше:
— Помнишь из воспоминания одну из девушек, которые шли следом за повозкой? Одну из них мне довелось найти. Я изучал это воспоминание десятки раз, пока не обнаружил заметную татуировку на лодыжке. И эта личность — наша соседка, — Вильям вытягивает руку и кивает большим пальцем в сторону смежной стены. — Возвращается она всегда ближе к полуночи.
Он резко встаёт с дивана, вставая перед лицом Хеля так, что, кажется, ещё чуть-чуть — он клюнет своим носом его нос.
— И с этого я предлагаю начать! — на ноте веселого смешка гремит щебечущий голос. —Мы можем её пытать. Можем её соблазнить. Но на самом деле, я хотел бы спросить ТВОЁ мнение. Ведь мы гений в поисках артефактов. И ты лучше меня знаешь, с чего начать. Или у тебя способы есть…эти…ну, гуманные? Но зато мои проверенные!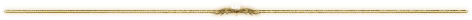
Странное чувство — сочувствие. В чем-то схоже с жалостью, только без отстраненной снисходительности. Хель смотрит на Вильяма и чувствует именно это: слишком хорошо ему знакома сковывающая тело слабость. И нежелание ее показывать. Только если Блауз, казалось, наслаждался тем, чтобы щелкнуть по уязвимому месту, ростовщик только молчит, делает вид, будто не замечает, как вода переливается за ободок бокала, не замечает брызг на чужих пальцах, разом растерявших уверенность.
Жалость ростовщик чувствовал, глядя на зверя в клетке, хотелось протянуть руку, вытащить его оттуда… что там, спрятать за пазухой, как котенка, несмотря на царапины от когтей. Успокоить, обещать, даже лживо, что все будет хорошо. Сейчас сочувствие заставляет отвести взгляд. Облокотиться бедром о стол и вертеть в руках трость, словно никогда прежде ее не видел. Ждать, когда собеседник придет в себя.
Корвус всегда ждал. Когда судороги скручивали хтоника, он молчал, не отпуская привычных шуток. Не обращал внимания на рвущиеся из горла хрипы. Только ждал, и когда боль затихала, а трещины, пересекающие узор чернил, сглаживались, словно воспоминания о старых ранах, садился ближе, подставляя голову под алчущие чего-то живого пальцы. Наверное, именно так Хель и узнал, что такое сочувствие.
Хтоник знает: все это не будет иметь значения. Интуиция подсказывает, что Блауз совсем не прост, что все это может плохо кончиться. Что он еще в самом деле может увидеть нового знакомого за дрожащим наконечником трости. И тогда все это не будет иметь значение — ни сочувствие, ни понимание, ни зародившиеся симпатии. Шальная мысль пробивает голову, когда Хель бросает на напарника быстрый взгляд: они могли бы стать друзьями. Но, наверное, в другой жизни.
Ответ, вопреки всему, не шокирует Хеля. Ростовщик кивает, всего лишь получая подтверждение некоторым своим догадкам. Его новый знакомец умелый палач — не то чтобы он утверждал обратное. Нечему удивляться, но вот желание как-то… сгладить углы… нет, на самом деле, это желание не запачкаться — вот с этим-то не поделаешь ничего. Можно лишь нервно сглотнуть, хоть ком в горле никуда и не денется, скрыть слишком сложную смесь собственных эмоций за жалким и неуклюжим жестом: Хель трет переносицу пальцами, морщится, словно от головной боли. Но голова не болит, только немного сердце.
- Гуманные способы, - выдыхает Хель, будто тренируется складывать слова друг с другом, потом вздыхает. Речь ростовщика медленная, даже сказанные два слова — будто целый шелест перелистываемых ветром страниц.
Вильям движется — быстро, почти резко, как расправляющаяся пружина. И смотрит с вызовом. Хелю на мгновение становится любопытно: этот парень вообще знает о такой особенности своего взгляда? В нем так и горит жажда действовать, жажда… жить? Может, боль, что колет хтоника близ сердца, это всего лишь зависть?
- Я предпочел бы обойтись без пыток. Почему мы не можем проследить за этой девушкой?
Против воли он представляет ту, чей образ запомнил в видении. Он даже помнит имя, «Женева», оно перекатывается на языке, будто кофейные зерна — и наполняет такой же горечью. Хель не уверен, был ли услышанный им хруст от ее удара реальным.
- Если я понял правильно… ты достаточно хорош в ментальной магии, чтобы заставить ее не заметить тебя, даже идущего практически за спиной. Что касается соблазнения… боюсь, здесь я дам фору даже вот этому вот столу, - ростовщик хмыкает и костяшками пальцев стучит по столешнице. Звук кажется неестественно громким по сравнению с голосом хтоника. Даже Хель вздрагивает и чувствует предательскую колкость мурашек вдоль позвоночника.
- Скажи, сможешь ли ты вытащить информацию, не навредив девушке, если понадобится применить… твои таланты? - наконец спрашивает Хель после долгой паузы. Достаточно долгой, чтобы подумать, будто вопроса и не последует. Но это по-настоящему беспокоит хтоника, поэтому взгляд, которым он одаривает напарника, долгий и требовательный. Так смотрят на приобретенную драгоценность, еще не решив, стоила ли она своих денег. На впервые раскрываемые страницы книги — с сомнением пробуемого на вкус разочарования. С надеждой получить больше, чем ожидал.
Но хуже всего, - и Вильям наверняка это понимает, как должен понимать и величину прилагаемых при этом Хелем усилий, - что ростовщик не остановит пытку, если станет ей свидетелем. И от осознания этого тошно настолько, что хочется выть — всегда больно видеть в себе то, от чего убегаешь. Может, поэтому хтоник не любил иметь дел с людьми.

Это было так очаровательно.

Хель будто раз за разом показывал именно ту часть себя, которую от него ожидаешь увидеть. Он действительно походил на подростка: и дело оказывалось далеко не в агрессивном одеянии, в которое он себя облачал. Хотя даже в последнем читалось: «не подходи», «не трогай». Будто предупреждение заранее, сказанное людям ещё на подходе к его фигуре. Но присутствовало и нечто более глубокое, оно скользило в его словах, скудных и сдержанных. Редких.
В нём был максимализм: он не давал Хелю права отступать от моральных качеств, он не разрешал ему мыслить «Цель оправдывает средства» так, как мыслит об этом Вильям. Хель пытался пересечь болото и не испачкаться. В глубине души он, возможно, знал, что у него не получится, но характер настойчиво показывал ему на чистые кочки в обход короткой, но грязной пучины. И он скакал по ним до момента, пока одна из них не оказывалась предательски скользкой. Но даже тогда он бы сказал себе: «Я сделал всё, что мог». И всё равно бы не свернул на дорогу короткую.
Вильяму было не понятно. Он видел Женеву раз за разом в украденных воспоминаниях, и чем дальше, тем больше тошнотворных эмоций она у него вызывала, тем сильнее белели его пальцы, сжатые в кулаки. В её острых чертах, длинном носе с горбинкой и высоких скулах виднелась одновременно красота и высокомерие. Вильям слышал десятки раз — десятки! — как её изящная ладонь с золотыми браслетами с остервенением шлёпала по хвосту несчастного зверя, который случайно её коснулся. Во взгляде Вильяма, когда он не был обременён присутствием посторонних, тоже виднелось сочувствие. Перемешанное со злостью — она толкало его не отводить взгляд, а приводила в моторное возбуждение. Не хватало лишь площадки для боя. Он бы порвал Женеву на куски, если бы мог.
Возможно, в этом и заключалась суть. Эмоции, переживаемые десяток раз, дают право ненавидеть. Вильям задумался на секунду: увидь Хель такое же количество раз этот шлепок, как он, был бы так же однозначен и категоричен? Но в ответ себе он лишь шумно выдохнул.
— Я умею, — без зазнайства ответил Вильям, становясь беспокойным. — Только дело в не в том, что умею я, а в том, что мы не знаем, что умеет ОНА. Одно дело — покопаться в мыслях человека, который не сведущ в ментальной магии. Более того: укради воспоминания, например, у такого, как ты: возможно, ты почувствуешь головную боль, недомогание и истощение. Будто за день успел переругаться со всеми, кого встретил. Ты скорее всего даже не поймёшь, что на тебя воздействовали и что-то произошло. Иное дело — вторгаться в область, которую умеют защищать. Чем глубже изучаешь внушение, тем сам становишься более ревнивым и чувствительным к вторжениям. И вторая сложность — магическая вязь. Она требует тактильного контакта. Как сейчас, когда я показывал тебе обрывок прошлого.
Вильям пожал плечами. Всё больше идея соблазнить и подвергнуть пыткам была для него очевидной и простой: не требовала никаких ухищрений, не имела сложностей в исполнении. Устранить врага было манко и желанно. Ему не жаль было Женеву: темпераментный в своей сущности, Вильям убил бы каждого, приложившего руку к этому делу.
Но он тоже дал обещание. Как бы наивно ни звучали желания его временного союзника, он дал слово считаться с его чувствами.
— Хорошо, — с огорчением выдохнул Блауз, будто этот момент бесконтактного боя с Хелем он проиграл. — Есть один способ. Мы проберёмся в её спальню ночью, чтобы залезть в голову, пока она спит. Но мне будет нужно: чтобы ты бесшумно вскрыл её ловушку-замок и следил, чтобы леди не очнулась в самый неподходящий момент. Я, погружённый в чужое сознание, перестаю быть зрячим и малость не реагирую на происходящее в полной мере. А твои глаза будут нужны: как контролёра и поисковика. Ну что, ты согласен прикрывать мою спину, дабы не допустить пыток?
Худощавая ладонь в перчатке была протянута вперед в жесте открытого рукопожатия. Скрепление доверия — не более того. Для Вильяма сфера прикосновений всегда была важна.
— Если ты согласен, то у нас до времени её возвращения в гостиницу есть ещё два часа. Пойдём на первый этаж? Там прекрасный ресторан, и подают лангустины, которые обитают в подземных водах около Крокса. Пошли, Хель! Я угощаю.
Хель отстраненно кивает, вслушиваясь в каждое слово собеседника. Взгляд медленно скользит по чужому лицу, словно капля воды по чужой ладони. Ростовщик чувствует, почти физически ощущает, как что-то в его напарнике противится принимаемому решению: выбору меньшего зла. Странно, что именно как меньшее зло это ощущается… Хель почти не чувствует облегчения.
Он знает: будет непросто. Какая-то часть его натуры, та, что заперта за семью замками, что даже из зеркала оскалиться не посмеет, шепчет, что они об этом еще пожалеют. Не получится. Что-то пойдет не так. Хель верит этому, но пролиться во взгляд сомнениям не позволяет. Если случится… что же, он ведь говорил, что сделает все, чтобы пережить эту миссию. Сейчас же, когда они просто обсуждали, договаривались… тяжело было не думать о том, что планируешь убийство девчонки. Пусть врага, пусть ради дела — сколь угодно благого, но… убийство.
Хель не желал крови на своих руках .Достаточно было той, что и так преследовала его в кошмарах. Слишком хорошо знал: наверняка за все это путешествие накопится сожалений. Столько, что часами будешь горбиться над раковиной, силясь смыть с пальцев грязь и чужую кровь, до ссадин обдирая ладони. А потом замрешь, зажмурившись, сдерживая рвущийся из горла вой… Хель кивнул в ответ на слова напарника.
- Согласен, - выдохнул хтоник, - я сделаю все, от меня зависящее.
Взглянул на протянутую ладонь, обтянутую перчаткой… и спустя мгновение, разбившееся на целую вечность в его голове, ростовщик сжал чужие пальцы. Прикосновение обжигало, и Вильям наверняка должен был почувствовать, как дрогнула рука хтоника. Желание одернуть пальцы читалось и в напряжении, сковавшем до самых плеч, и в поджатых губах. И во взгляде, старательно опущенном. Хель понимал: это касание необходимо Виллу. Скрепление сделки. Такое же, как росчерк пера в документе, может, чем-то даже более значимое.
Стоит ли одно касание чьей-то жизни? Даже если касание причиняет боль, а жизнь принадлежит безжалостной убийце… наверняка ведь убийце — либо уже, либо вот-вот, после темного ритуала… Так стоит ли?
Хель ненавидел себя за невозможность хотя бы мысленно сказать «да». Выдавил подобие улыбки, кривое и жалкое. И отшатнулся так быстро, как только могли бы позволить приличия. И чужие руки.
Что будет, если девчонка проснется? Хель думает об этом, переводя дыхание, представляя чужую комнату, как две капли воды похожую на ту, в которой он находится со своим собеседником. Видит замершего у чужой постели Вильяма, истекающего чернилами колдовства… что будет, если девчонка проснется? Что окажется сильнее — обязательство защищать напарника или нежелание обрывать чужую жизнь? Хель не знает и целое мучительное мгновение ощущает себя предателем.
А потом смотрит на Вилла, уже расплывающегося в улыбке. Таким тоном зовущего поужинать вместе, будто предлагает целого себя в распоряжение — не на два часа, а на целую вечность. Всего с потрохами. Против воли хочется согласиться, слишком похож взгляд паренька на тот, прежде виденный в лавке. Кажется, будто согласие Хеля значит для него не меньше, чем для ребенка родительский подарок. Хель гадает, насколько близки его догадки о мальчике-сироте… и мысленно умоляет, почти молится, чтобы все закончилось хорошо, чтобы каждый из них обрел то, что им так желанно. Чтобы Вильям вернулся в лавку ростовщика, хозяйски взял в руки отполированный временем и мастерами череп, улыбнулся своему отражению в зеленых камешках глаз…
- Хорошо, - выдыхает Хель, - пойдем.
Он знает, что кусок не полезет в горло. Что сколько бы яств ни поставили на стол, все равно не получится проглотить ни кусочка. Корвус был бы в восторге от угощения, но хтоник может думать лишь о том, что ночь закончится чей-то смертью, чувствует, как отбивает таймер по позвоночнику. Соглашается, делая одолжение и отводя взгляд, не желая портить возможное удовольствие напарника. Ненавидя того за возможность сейчас вообще радоваться чему-то, желать… хотеть есть. Его желудок лишь сокращается спазмами, тошнота подкрадывается к горлу. Но губы кривятся в улыбке.



Небольшая ладонь сжимает другую: в этом жесте сосредоточение доверия, которого нет. Это фальшь и обманка, но Вильям чувствует, как ему становится легче — когда он ощущает чужую руку на своей через плотную кожу перчаток. Будто напарник предлагает ему помощь, заставляя полагаться на своё плечо. Будто он доверяет.
Забавно.
В роковой момент времени они нужны друг другу, и оба знают об этом. Этот миг, это приключение можно прожить насильно: вынося общество друг друга с прохладой случайных попутчиков и царапаясь об острые углы. А можно иначе: и Вильям пытается приручить Хеля как робкого кота приручают куском мяса. Показать себя, подставить спину, коснуться. Сказать жестами: «Посмотри, я не опасен. Потрогай меня — я не кусаюсь». Не сутулиться, не скрещивать руки на груди и не отступать. Настолько откинуть назад плечи, а корпус обратить к другому — чтобы легко можно и обнять, и распять. Ведь боязливые животные это чувствуют, им важно показать, что они контролируют ситуацию. И что их не обидят.
Вильям захватывает чужую ладонь своими пальцами: у него мягкие движения, но хватка цепкая. Он сжимает пальцы Хеля, задержав мгновение, и чувствует дрожь. Эта дрожь такая короткая, невесомо воздушная, что Вильяму кажется: всего лишь почудилось. Его брови вопросительно дёргаются вверх, а взгляд вонзается в лицо Хеля так, будто он ищет сбой в его организме — или пытается убедиться в собственной неправоте.
Но Хель на него не смотрит. Его взгляд потуплен вниз, и Вильям понимает это движение глаз как никто другой. Уголки его губ предательски тянутся вверх, а взгляд приобретает хищные ноты: так люди убеждаются в чужой слабине. Так хищные животные чувствуют умирающих и раненых. По запаху крови, но Вильям — по случайно дрогнувшей руке. В нём просыпается нечто животно-опасное, что шепчет ему: Хель не хищник. Он большое травоядное, которое удачно мимикрирует. А хищные звери всегда смотрят на потенциальных жертв одинаково: им хочется сожрать их потрохами. Им НРАВИТСЯ чужая слабина.
— Отлично, — с нескрываемым удовольствием произносит Вильям и отпускает руку.
Вешалка для одежды у входной двери пронзительно позвякивает, когда на её изогнутую петлю опускают длинный плащ. Шаг назад — и приятное личное пространство восстановлено. Ещё шаг — распахнутая дверь удерживает фигуру, которая зовёт Хеля за собой. За окном маячит глубокая ночь, но ресторан работает круглосуточно. Лицо Вильяма меняется: за порогом номера он оставляет все мысли о предстоящем ночном визите и превращается в простого человека. Или в почти простого.
Их столик в самом дальнем углу около большого окна. В зале не так много народа, кроме нескольких юных влюблённых пар и одной пожилой семьи. Оркестр уже разошёлся по домам, но слух ласкает приятная незатейливая музыка из магнитофона. Ресторан выдержан со вкусом: несмотря на внешний вид отеля, интерьер в строгом классическом стиле. Здесь витает приятный запах уставшей кухни и аромат свежей выпечки. Вильям видит всю безучастность его спутника и заказывает ему на свой выбор: большой чайник крепкого чая и исполинского лангустина размером с ладонь.
— Поешь, — заботливо кивает Вильям на блюдо перед Хелем. — Я понимаю твою тревогу, но, когда ты будешь без сил, тысячу раз пожалеешь, что дал эмоциям взять вверх над телом. Поешь. Хотя бы немного.
Вильям суетливый: он наливает горячий чай в одну из чашек и пододвигает к новому знакомому. Его, кажется, совершенно не волнует ни то, чем закончится их ночное приключение, но то, какие для этого будут приложены силы. Он верит в успех и не хочет об этом думать за два часа до. Его куда более волнует вкус розе на дне утончённо-прозрачного стакана. И он потягивает его медленно, за беседой, которую он заводит будто с самим собой. Вильям не замечает пространство вокруг.
Зато Хель может убедиться точно: он помнит о своих обещаниях. Официант приносит заботливо упакованный контейнер размером с небольшой подарочный пакет и ставит на край стола. Мечтательный и пьяный Вильям вновь пододвигает его к Хелю неуверенным движением руки, свободной от алкоголя:
— А это не тебе. Это твоей чудесной птице. Килограмм мидий в устричном соусе. Если твоя пространственная магия достаточно хороша, угости своего красавца завтра утром. И передай ему привет, а потом возвращайся.
После первого стакана розе Вильям становится добрее обычного. Он расспрашивает Хеля о себе с искренним желанием узнать его поближе — и распыляется любовью о том, кого он считает к себе самым близким. Об Этропиусе.
Можно придумать тысячу эпитетов восхваления своего демиурга, но невозможно подменить голос, в котором скользит безмерная любовь и уважение к божеству как к тому, кто всегда был рядом — начиная с тяжёлых лет в детском доме. После первого бокала розе Вильям любит весь мир. После второго он сочувствующий советчик и поддержка. Даже когда его об этом не спрашивают.
— И что ты там сказал о привлекательности? —мурлычет себе под нос Вильям, усилием мысли пытаясь выхватить из памяти цитату Хеля. — Что ты в соблазнении ни бум-бум? Тут всё зависит в уверенности в себе. Да и, каким ты бы ни был странным, всегда найдёт тот, кому твой образ зайдёт от макушки до истоптанных сапогов. Мне, например, чудаки и правдорубные тихони нравятся до одури, особенно когда одно дополняет другое. Будь ты девушкой, ты был сейчас не здесь и в не в одежде. Так что переставай в себе сомневаться. Всё с тобой хорошо.
У Вильяма закрываются глаза. Он жестом подзывает к себе официанта и почти не глядя оплачивает счёт. Его глаза закрываются. Он подпирают голову ладонью, проваливаясь в сонное небытие и удерживаясь в сознании неимоверными силами упрямства.
— Я так устал за сегодня. Пойдём. Нам скоро спать. 
Отредактировано Вильям Блауз (2022-06-25 14:29:02)
В обстановке ресторана Хель чувствует себя неуютно: чужим, почти чем-то инородным. И невольно сжимается, всей кожей ощущая чужой несуществующий взгляд. Умом он понимает: людей немного, да и присутствующие заняты в первую очередь собой. Взгляд скользит от склонившихся друг к другу голов до соприкасающихся рук в опасной близости от горящей свечи. Ростовщик моргает и усилием воли заставляет себя выпрямиться, проходит к столику и садится. С тихим деревянным стуком прислоняет трость к своему стулу.
Собеседник берет на себя все тяготы переговоров с официантами, и Хель только кивает, чувствую что-то между благодарностью и раздражением. Ему непонятно, как можно сбросить возникшее напряжение вместе с оставленным в номере наверху плащом. Он почти завидует легкости чужих движений, тому, как Вильям улыбается и откидывается на стуле. Напарник кажется спокойным, что, пожалуй, и правильно: хтоник и сам с радостью отбросил бы мысли, возвращающие к чужой пытке, к дрожи пальцев, изливающихся чернилами… но не может.
Он вздрагивает, слыша заботу в голосе напарника, слепо смотрит на блюдо перед собой. Потом тянется к чашке. Кажется, пальцы жжет не от жара напитка, а от недавнего прикосновения — было в том нечто странное, неприятное, как во взгляде хищника, брошенном из засады. Сердце спотыкается, Хель неохотно делает глоток: чай пахнет травами и на языке разливается приятной горечью. Приятной, но, к сожалению, не успокаивающей.
- Из меня не очень хороший собеседник, - тихо замечает Хель. В голосе не слышно извинения, хоть ростовщику и неловко. Взгляд скользит по лицу Блауза, цепляясь за темную точку родинки. Вино в чужом стакане притягивает взор, не вызывая ни капли жажды, только завораживая розоватым оттенком, напоминающим о смываемой с пальцев крови.
Есть хтоник не может, но под взглядом собеседника неуверенно ковыряется в тарелке, совсем не изящно и выдавая тревогу каждым неловким движением. Но вместе с вином из чужого бокала убывает и наигранность в человеке, сидящем напротив. Хель все чаще поднимает взгляд, почти завороженный ленивыми жестами. Вильям выглядит не просто спокойным, но… так, словно в жизни его и вовсе не видно забот, а ростовщик уверен в обратном.
- Спасибо, - искренне отзывается Хель, когда на стол рядом с его неэлегантно выставленным локтем приземляется контейнер с морепродуктами. Пальцы тут же тянутся к упаковке, будто к желанному подарку. И улыбка, кривящая губы, вдруг становится почти приятной. - Корвус это оценит.
Хель помнит: терять бдительность не стоит, да ему подобное и не доступно. Какой-то частью своей натуры он представляет себе этот ужин подобием гнусно играемой пьесы, но… поверить в проявляемый интерес оказывается приятно. И ростовщик невольно втягивается в разговор. Он не уверен, насколько в действительности пьян сейчас его собеседник, но не думать об этом… почти легко. И Хель рассказывает: о Корвусе, о лавке. О книгах, собираемых с любовью и старанием. В какой-то момент он вдруг понимает, что улыбается совершенно искренней и теплой улыбкой… и тут же он надеется, что Блауз этого не заметит или забудет.
Кажется, уже очень поздно. Хель не следит за тем, почему в его чашке не уменьшается чай. И горечь трав на языке уже кажется приятной, сливаясь с далеким привкусом меда. Тревога и жуть все еще здесь — на расстоянии одной мысли, меньшем, чем то, что разделяет подрагивающие пальцы и терпеливо ждущую их трость. Но ростовщик улыбается, покоренный, почти зачарованный своим собеседником. Блауз говорит о своем демиурге как об отце, как о единственной семье, что когда-либо была у него… и Хелю кажется: он понимает. Понимает потерянность одинокого мальчишки, желание близости хоть с одним существом на свете… Это недоступно ему, Хель знает точно, как недоступно и бескорыстное и несомненное доверие — но разум поддается эмоциям, желание повисает недосказанностью, так и не сорвавшись с губ. Доверять собеседнику ростовщик не имеет права, помнит, что все сказанное сейчас не будет иметь никакого значения… когда? Да в любой момент, стоит только чему-то пойти не так. Предчувствиям своим хтоник верит, и они болью впиваются между ребер.
Но в чем-то Блауз точно был прав — и ростовщик снова смотрит на уже успевшего остыть лангустина. Блюдо растеряло аромат, но и хтоник лишь теперь чувствует голод. Желудок сжимается спазмом, настойчиво привлекая внимание — Хель с трудом узнает этот сигнал. Успевает отстраненно подумать о том, как часто Корвус корил его за то, что, увлекшись книгами или артефактами, хтоник забывал и поесть сам, и даже покормить друга.
Он подцепляет вилкой кусочек мяса, опасливо подносит ко рту…
- Будь ты девушкой, ты был сейчас не здесь и в не в одежде. Так что переставай в себе сомневаться. Всё с тобой хорошо.
Целое мучительное мгновение Хель уверен, что задыхается. Причем, что забавно, такой исход вовсе не кажется наихудшим. Сказанное Вильямом тянет на полноценное покушение, и Хель чувствует непривычный жар приливающей к лицу крови, когда тянется за чашкой - запить едва не погубивший его кусок мяса.
- С чего ты взял… что я… переживаю об этом? - выдыхает хтоник. Пальцы загребают воздух в предательской близости от чашки. Движение оказывается еще более неловким, чем любое из предыдущих. Удивительно, что оно, кажется, остается незамеченным для Блауза. Тот сонно клонится к столу. Хель чуть не опрокидывает чашку.
Остывший чай льется в горло и снова заставляет кашлять. Пользуясь мгновением, когда Вильям расплачивается по счету, ростовщик прижимает руку к губам — и после смотрит на пальцы, боясь увидеть серый налет пепла. Ничего.
- Пойдем, - соглашается хтоник, с долей сомнения переводя взгляд на напарника. Тот кажется настолько уставшим, что почти не верится, что они доберутся до номера наверху. Поколебавшись, Хель все же протягивает руку, готовый, если нужно, подхватить заваливающегося Блауза. Почему-то для него эта самая готовность значит гораздо больше, чем рукопожатие, которым скреплялась сделка — но Вильяму об этом знать ни к чему.
Отредактировано Хель (2022-06-25 19:57:45)
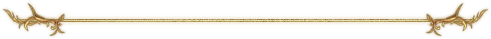
От напитков есть послевкусие. Розе слабо пьянит, заставляет кровь согревать тело и ощущается тонким покалываем на кончиках пальцев. От людей тоже есть послевкусие. Вильям ощущает — только сейчас — что они с Хелем перешагнули невидимую черту и стали ближе. Но не так, как становятся ближе друзья или влюблённые. Не так, как становятся ближе люди, делящие одно хобби или работу. Они перешагнули черту, разделяющую «посторонних» и «остальных». В их беседе было что-то тёплое, по-домашнему согревающее, что заставило забыть о предстоящем ужасе наверху. По крайней мере, одну из сторон.
Послевкусие от человека сложно передать, но Вильям чувствует что-то безмерно сердечное от человека, который имеет обыкновение быть до каменного холодным. Сковырни эту грубую корку снаружи: под ней нежная плоть, которая кровит от каждой раны. И так почти с каждым, кто ершится от чужих прикосновений. Вильяму кажется, что он проник пальцами глубже, добрался до самой сути: а стоило лишь послушать о любви человека к книгам, своему любимцу и делу. Человека выдают его страсти. Вильям хорошо запоминает такие «несущественные» мелочи.
Пройдёт время — они вспомнят друг друга, даже если будет казаться, что забыли.
Вернее, разворачиваться они стали стремительно — и Хель похолодел, узнав приближающуюся фигуру. Пожалуй, в мире было немного вещей, вызывающих у хтоника такой неподдельный ужас, и одну из лидирующих позиций в списке заменял Вилл Блауз. Не в том смысле, что Хель опасался встретиться с ним в борю или питал к парню неприязнь — демиург упаси! В некотором роде, ростовщику даже нравился этот шумный энергичный юноша, отличающийся от него самого как сведенная в негатив фотография от оригинала. Но он хорошо запомнил: там, где появлялся Вильям, по пятам за ним следовал хаос, и любые построенные ранее планы можно было смело отправлять птице под хвост. А потому, когда Хель узнал старого знакомого, во взгляде его явно читалось лишь одно: «Только не ты!»
— Благодарю, — добро отвечает Вильям в ответ на предложенную руку.
Его слабо пошатывает, но он держится на ногах. Медленно встаёт. Перед глазами мелькают серые мушки, пространство зала плывёт перед глазами. Незатейливая мелодия из магнитофона теперь кажется какофонией и режет слух. Слишком громкая и неправильная. Раздражает.
— Я в порядке, — говорит Вильям, и его пошатывает так, что он вынужден облокотиться о край стола.
— В порядке, — злобно повторяет он и понимает: локоть Хеля сейчас самая стабильная субстанция в его жизни.
И опирается на него: не налегая всем весом, не заваливаясь, а скорее страхуя себя от возможного падения.
— Ты же с тростью ходишь. Что ты вообще творишь? Какая стыдоба.
Лицо Вильяма наливается краской: он красный до кончиков ушей, но это не алкоголь. Его лицо грустнеет от созидания того, как сам Хель вынужденно передвигается с тростью. Его пьяному мозгу невдомёк спросить: действительно ли Хель болен или трость скорее как аксессуар для передвижения, чем вынуждения мера по здоровью?
Мозг рисует самое худшее развитие событий.
— Прости, — драматично бормочет Вильям себе под нос, но так, чтобы собеседник слышал. — Прости. Мне очень стыдно.
Он не помнит, как они пересекают лестницу, как возвращаются назад. Окружающая реальность вокруг плывёт несуразными яркими картинками: они стираются из памяти, едва появляясь. Остаётся только Хель.
Возможно, единственное важное лицо в этот день.
Часы его комнаты показывают без двадцать. Без двадцать от нужного часа. Без двадцать минут от взлома чужой комнаты. Здесь не меняется ничего: та же мебель, те же стены. Оставленный на крючке напольной вешалки плащ, мирно ожидающий своего владельца. Вильям не включает свет: он понимает, что лучи больно ослепят глаза и наощупь добирается до дивана. Берет маленькую подушку в руки, прижимая её к своему телу, и упирается лбом о мягкую диванную спинку. Поза эмбриона, выдающая желание спать.
— Ты любишь читать. Это у нас общее, — внезапно прорывается в темноте его голос, неуместно мечтательный и низкий. — Давай я тебе почитаю.
Странное предложение. Странный тон. Вильям набирает в лёгкие воздух и выдаёт:
—
Успокой и скажи, что зимы не будет.
Солнце сядет, и завтра проснётся рано.Мои волосы выгорят, нас простудит
Терпкий ветер с холодного океана.Успокой и скажи, что не дрогнут руки,
Что погоня закончится в нужном месте.Что и с нами прокатят все эти трюки -
Что умрем мы и снова потом воскреснем.Успокой и скажи, что погаснут свечи
И зажжется костер - будет виться пламя.Что я буду и дальше наш каждый вечер
Видеть свет за высотками и домами.Что плохое всё - с той стороны экрана,
Где кишат злые мысли и злые люди.Солнце сядет и завтра проснётся рано.
успокой и скажи, что зимы не будет.
ВСЁНАЧИНАЕТСЯСПОЛЁТА
И секунды превращаются в часы. Вильям ненадолго затихает, чтобы подобрать нечто иное. И выстреливает залпом:
-
Ты мне - о птицах, о гулящем ветре, о небе без оборванных краев,
Об ужинах в любое время суток, о завтраках без стульев и столов,
О вечере, плескающемся в рюмках, о девушках без имени и лиц,
О том, что это истинное счастье - быть кем-то, не имеющим границ.Ты мне - о картах, о дорожных венах, впадающих в столичные сердца,
О песнях, посвященных только струнам, о жизни беззаботного творца,
О жалости к влюбленным и любимым, о слабости несчастных без любви.
О том, что если выдали минуту, возьми ее и просто проживи.Ты мне - о прошлом, о своем кошмаре, о трещинах в измученной груди,
Об имени, исправленном на "глупость", о радости, что это позади.
И если хочешь, я тебе поверю, лишь дам совет, чтоб ты не забывал:
Когда ты утверждаешь, что ты счастлив, следи, чтобы твой голос не дрожал.
DEACON

aesthetic
Несмотря на дискомфорт, Хелю хочется смеяться. Тем неприятным кашляющим смехом, в котором с трудом распознаешь радость. Невольно он думает о том, что Вилл прав: стыдно. Но стыдно смеяться над тем, что меньше, чем через час нужно взламывать замок на чужой двери, а сейчас приходится поддерживать шатающееся тело, выдыхающее одно извинение за другим. Удивительно, сколько всего Хель готов был ожидать от Блауза, но только не искренности, звучащей в каждом тихом «прости».
Прикосновение прожигает до костей. Сначала — почти невесомое, будто напарник не желает причинять лишнего дискомфорта. Затем ожог чужого тепла от плеча и до пальцев, вынуждающий стиснуть зубы, сделать пару коротких рваных вдохов, моргнуть, разгоняя смыкающуюся перед глазами темную пелену. Хель кривит губы в улыбке, поудобнее перехватывая трость свободной рукой.
- Конечно, ты в порядке, - соглашается хтоник, хотя после вести приходится ему. Блауз спотыкается, а на лестнице, кажется, вовсе теряет способность думать и двигаться. Хель поддерживает парня за плечо, не чувствуя собственной руки. Гостинец для Корвуса приходится зажать под мышкой. Ростовщик думает о том, что точно не сможет забыть это приключение — и этого человека. Может, смажутся детали, но что-то останется, может, чувство скребущей тяжести под ребрами. Или боль вывихнутого плеча.
Хель надеется, что его откровения будут забыты — наверное, в какой-то мере это и заставляет его упорно тащить напарника на себе. Очень редко ему доводилось встречать людей, с которыми хотелось искренне улыбаться. Это не делает их друзьями, но… мысль о возможном предательстве горчит на языке.
Вильям шепчет очередное «прости» и бормочет что-то про трость, пока Хель толкает парня к стене, чтобы освободившейся рукой вытащить ключи от номера. Остается гадать, неужели Блауз действительно переживает о том, что мог причинить неудобства больному? Ростовщик ловит себя на мысли, что пьяным Вилл вызывает у него больше симпатии… а затем поспешно отбрасывает эту мысль, как несущественную. Дрожащими и еще плохо слушающимися пальцами он не сразу попадает ключом в замочную скважину. Лязг металла царапает уши, перекликаясь с мелодией, звучавшей из старенького магнитофона в ресторане. Отголоски ее все еще звучат в голове, мурашками сползают по позвоночнику.
Хель открывает дверь и с облегчением впускает напарника в номер, не торопясь щелкать выключателем. Его глаза быстро привыкают к полутьме, в которой Блауз безошибочно добирается до дивана, чтобы скрючиться на нем, подтянув к животу подушку. Он выглядит… уязвимым. Растерянным. И очень живым — даже живее, чем когда ворвался в лавку ростовщика несколько часов назад. Тогда в его энергии было так много безудержного хаоса и веселья, сейчас же хочется ему посочувствовать. Хель вздыхает и закрывает дверь, пытаясь прикинуть, хватит ли Виллу времени, чтобы прийти в себя. Пытается вспомнить, как много выпил Блауз, но не может.
- Послушай, насчет моей трости… - Хель вздыхает, думая о том, что нужно успокоить человека, но договорить не успевает. Блауз говорит первым — то, что от него точно не ожидали услышать. Только не Хель. Только не в этот вечер.
Он… читает стихи?
Хель замирает, едва добравшись до стола. Что-то… ломается в нем. Он специально не смотрит на Вильяма, но каждое слово лезвием клинка вонзается в бок. Хель думает о том, что Вильям не простит себе этой пьяной глупости. Или, может, просто о ней забудет. А Хель не сможет. И когда все пойдет не так, он не сможет убить человека, который в темноте читал ему стихи. Почему-то это кажется очень личным… будто они становятся ближе — не как друзья или любовники, но… Хель думает, что не хочет видеть смерть этого человека. И что, возможно, не сможет защитить себя, если понадобится.
Но хуже всего — вдруг понимает, что, защищая жизнь Блауза, сможет собственные руки испачкать кровью. Слова стихов вонзаются в мозг, заставляя мелко вздрагивать. И Хель не понимает, почему это кажется таким важным… ему всегда с трудом удавалось понять стихи, но он думает о том, что их никогда не станешь читать кому-то чужому. Сам он стихов не знает. Дрожащие пальцы цепляются за угол столешницы. Хель роняет себя на стул, горбится, прижимая ладони к лицу.
Ему стыдно и страшно. Потому что он не знает, что делать с этой близостью. Ему почти не хватает Корвуса, чтобы нарушить мерный набат раздающихся в полутьме строчек. Корвус всегда говорит там, где Хель может только думать. Собственное тело кажется ему клеткой, слишком слабым вместилищем для вороха мучающих сомнений.
Когда тишина возвращается, и последние сказанные слова вулканической пылью оседают на коже, Хель все еще молчит. Он не знает, что вообще можно сейчас сказать. Хочется попросить прощения за то, что он не сможет этого забыть. Или за то, что забыть хочет. Он не привык чувствовать сопричастность к чужой судьбе, не привык… беспокоиться о ком-то. А сейчас, на долю мгновения, он действительно боится, что должен будет причинить напарнику вред. И эта мысль почти стирает беспокойство возможной пытки.
Хель чувствует неровность собственной кожи под пальцами — трещина тянется от уголка губ, совсем маленькая, не идущая ни в какое сравнение с тем изломом, что залег где-то под ребрами. Тот, другой, будет мучить еще долго, а тонкую линию на подбородке легко не заметить. Хтоник вздыхает, усилием воли призывая себя к спокойствию. Не сейчас, не сейчас — напоминает он себе.
- У нас почти не осталось времени, - выдыхает ростовщик спустя целую вечность хрупких мгновений. Он думает, что должен сказать что-то еще… но не может. Приходится выпрямиться, тряхнуть головой и обернуться.
Когда-нибудь он, возможно, пожалеет, что не нашел верных слов. Если выживет.
- Нам пора, Вильям, - замечает Хель.
Отредактировано Хель (2022-06-26 16:06:06)
Настенные часы в виде деревянного домика ломают тишину пространства. Вильям привыкает к темноте, но всё, что он видит, — лишь спинка дивана перед собственными глазами и крохотный отрезок выбеленного потолка. Вильям не смотрит на мир с весельем, не источает привычное настроение бурной эйфории, но по-прежнему создаёт хаос.
Он царапает внутренности Хеля, потому что иначе не умеет.
Пальцы, прикасающиеся к коже, вызывают чувство жжения. Пальцы, царапающие сердце, вызывают боль. Можно коснуться человека руками: настойчиво, нагло, пролезть пальцами под одежду, коснуться постыдно-чувствительных зон. Слушать протест или видеть расширенные зрачки напротив: смесь стыда и удовольствия. Вильям всё это проходил не раз. Проходил с теми, кого он упорно называл своими «жертвами», — когда касался губами мочек их ушей и прижимал напором тела к холодной стенке. На «раз» — они сопротивлялись. На «два» — вжимались пальцами в его плечи, сминая ткань костюма. На «три» сдавались, заткнутые смачным поцелуем. Коснуться сердца всегда сложнее.
Это не навык. Это нечто более сложное.
И Вильям обращается в слух. Он слышит, с каким шумом опускается на стул тело Хеля, как на секунду у него спирает дыхание. Вильяму хочется поднять голову и посмотреть в его сторону, ничего не говоря, — но он давит эту затею как нечто глупое и лишённое смысла. В спинке дивана смысла не больше: но она не осуждает и не комментирует. Хель молчит тоже: и Вильям понимает, что ему нечего сказать.
Между ними наступает тишина. Она есть нечто правильное и логичное в смазанных буднях этого вечера. Тягучая, сложная и тяжёлая: её, кажется, можно потрогать пальцами, и она повиснет на них гирями.
Тик-так. Тик-так. Тик-так.
Настенные часы кажутся самыми шумными в этом помещении. Эту тишину нельзя назвать неловкой. Она уместна. Она правильна. Она кратко выражает мысль одного:
— Что я сейчас наговорил?
И мысль второго:
— Что я сейчас услышал?
В темноте комнаты глаза Вильяма кажутся большими чёрными жуками, отбрасывающими блики, — беспокойными насекомыми под лучами ночных звёзд. Вильям слышит собственное шумное дыхание в ушах. Он слышит, как редко дышит Хель, пребывая в состоянии задумчивости.
И ему почти жаль: перед глазами встаёт кривая несуразная улыбка, полосующая неправильное лицо напротив. Напряжённую позу, у которой спустя время расслабленно опускаются плечи. Там, два этажа книзу, Хель держит фарфоровую чашку с чаем и мёдом и улыбается ему. Он говорит о Корвусе, о себе и артефактах, делится увлечениями — губы могут врать, но глаза улыбаются честно. В то мгновение они на долю секунды наслаждаются кратким мигом забвения: Вильям видит, как мысль о предстоящем взломе неохотно покидает голову собеседника. Он улыбается. И слушает, и говорит, обращая корпус вперед — верный знак расположения.
И сейчас, мгновение спустя, Хель даже на него не смотрит.
У Вильяма в голове только одно.
— Я всё испортил.
Он хотел бы промолчать, но говорит об этом вслух.
Ткань рубашки приятно хрустит, когда человек на кровати переворачивается, чтобы встать. Пальцы скидывают со ступней ботинки: так легче передвигать незаметно. Ноги, облачённые в белые носки с узором нелепых жёлтых уточек, чувствуют прохладу пола. И Вильям ерошит на голове спутанные волосы: его голова тяжёлая, но в критический момент она может мыслить здраво. Во внутреннем кармане оставленного плаща он находит комплект отмычек. Вильям кивает Хелю, что пора.
Они выдвигаются под покровом ночи. В это время коридор пуст, а лампы погашены. Остаётся лишь одна керосиновая: которая стоит на столике в конце коридора в качестве предмета старины. Как украшение. Нужная дверь выглядит белоснежно-чистой. На верхнем углу мелькают металлические цифры комнаты 29, а ещё ощущаются следы магии.
Вильям встаёт на колени и заглядывает Хелю в глаза. Он стягивает зубами перчатку с правой руки и показывает ею на область двери. Если не приглядываться, то это слабое свечение не заметно, но в темноте оно едва отливает красным. Будто заштрихованный магией круг.
— Я не знаю, что это, — раздаётся в темноте тихий голос, доступный только одним ушам в мире. — Либо ловушка, либо сигнал к спасению на случай, если кто-то проникнет в номер из посторонних. В любом случае, мне нужно, чтобы ты его посмотрел.
Вильям ковыряет отмычкой замок, стараясь обходиться без шума. Короткий лязг ¬— и замок поддаётся. Остальное остаётся за второй парой рук.
Или глаз.
— Помоги, Хель.
— Я всё испортил.
Хель не оборачивается. Только закрывает глаза, как будто в темноте это имеет значение. Стук настенных часов сливается со звучащей в голове мелодией, слишком похожей на стихи, которых Хелю теперь не выбросить из своих мыслей. Чужие слова ядом просачиваются под кожу, оставляя трещины, которые так просто не сгладить.
Хтоник хочет возразить, такое сожаление ему чудится в голосе напарника. Хочется обернуться, объяснить… что все это страшно, непонятно и он не знает, куда деваться от накатившей слабости и стыда. Он чувствует себя соучастником преступления, куда более страшного, чем убийство. Он чувствует себя так, словно сам все испортил.
Он хочет согласиться. Обернуться, разразившись хриплым мучительным смехом, взрезающим грудную клетку. Конечно, испортил! Разве не должны они быть отчужденными незнакомцами, ничего не ведающими друг о друге? Тогда не было бы страшно, а видение смеющихся глаз и недрожащей руки с оружием не вызывало бы колкой боли в межреберье. Кажется, будто кашель не может вырваться, пеплом застревая в груди, кровью разливаясь на языке.
Хель молчит. Он думает о том, что был прав: его напарник умелый палач. Чтобы так врезаться в человека, вспороть ему брюхо не ножом, но всего лишь словом… нужен талант — а еще искреннее желание. Одно дело — сломить грубой силой, лезвием, приставленным к горлу, злостью кривой насмешки, тайной, выведанной исподтишка. Совсем другое, когда покоряешь искренностью, пробираясь не под рубашку — под самую кожу. Для этого нужно быть либо чудовищем, либо… наверное, Виллом.
Ростовщик выдыхает, но обернуться не может. Только слышит, как поддается диван под чужим телом, как со стуком падают сброшенные ботинки. В этих скупых звуках Хелю чудится обида. Но он не может обернуться, в глубине души боясь, что взгляд все выдаст. И смятение, и страх, и привязанность, от которых никуда не деться. Только пальцы тянутся к трости, силясь отыскать в ней привычную надежную опору… ладонь дрожит за миг до касания, и трость летит на пол. Тоже со стуком — но не печальным, а глухим, безнадежным. Напоминающим о вбиваемых в крышку гроба гвоздях.
Еще несколько ударов сердца — чтобы поднять трость, чтобы в чужой руке разглядеть блеск приготовленных отмычек. Хель почти шокирован тем, как выпрямляется напарник, тряся взлохмаченной головой. Кажется, выпитое вино почти выветрилось, но после, когда Хель следует за Блаузом в коридор, когда замирает у чужой двери, словно и вор, и убийца в одном лице… в скудном освещении далекой керосиновой лампы взгляд Вильяма кажется пьяным. Почти больным. Ростовщик моргает — и уже не уверен, может, просто почудилось. Но все равно торопится отвести взгляд, чтобы все свое внимание наконец посвятить делу.
"29"
Простая дверь, на первый взгляд не отличающаяся от остальных, в металле прибитых к ней и тронутых парой царапин цифр Хель различает смутную тень отражения. Чужая магия — вязкая, торопливо прилипающая к протянутой к замку руке. Не причиняющая вреда — как минимум, сейчас. Отмычка в обнаженной ладони Блауза выглядит как привычный инструмент, для ростовщика же подобным является магия, которую он призывает и затем сканирует дверь…
- Здесь… ничего, - выдыхает он с некоторой долей сомнения. Он абсолютно уверен в своих словах, просто удивлен тем, что чужая магия не преследует никакой цели. Что это тогда? Остаточный фон? Личная печать? По крайней мере, путь оказывается свободен, а дверь открыта.
То, что предстает перед взглядом Хеля, разум хтоника отказывается воспринимать. Комната, точная близняшка той, что снял для себя и напарника Блауз, преображена, видимо, в соответствии с предпочтениями жрицы, сейчас мирно почивающей на кровати. Хель моргает, щурится… потом моргает еще раз.
- Она… фанатка инквизиции? - предполагает ростовщик тихим шепотом, оглядывая плетки и цепи, любовно разложенные на столе. Взгляд цепляет выделяющиеся среди остальных металлические наручники, поблескивающие в скудном освещении, пробравшемся из коридора. О предназначении некоторых других предметов, покоящихся на столе, а также на полу возле кровати, хтоник догадаться не может. Может, это принадлежности для работы?
Некоторые из предметов выглядят… угрожающе, и долю секунды Хель раздумывает, стоит ли применить магию вновь. Быть может, она помогла бы разъяснить… непонятные моменты. И объекты. Но интуиция подсказывает, что от лишних вопросов стоит воздержаться. Особенно когда взгляд падает на прикованные к потолку манекен в кожаном костюме… хтоник надеется, что это именно манекен, потому что костюм выглядит так, что он бы в жизни не пожелал в нем оказаться. По позвоночнику ползут ледяные мурашки, Хель с трудом переводит взгляд на саму хозяйку комнаты.
Свет проникает в комнату таким же незваным гостем, как и двое, замершие на пороге, но все же взгляд успевает выхватить изящные линии бледного тела, распростертого на бордовом шелке. Вероятно, вечер жрицы прошел удачно, потому что на лице мирно спящей девушки заметна самая счастливая улыбка из всех возможных. Запоздало осознав, что жрица спит обнаженной, Хель торопится отвернуться — и тут же об этом жалеет, натыкаясь взглядом на… какое-то еще более странное приспособление, похожее на пыточное устройство. И черное кожаное белье, лежащее рядом.
- Я могу остаться здесь, - на выдохе предлагает Хель, переводя взгляд на напарника. Смотреть на Блауза кажется неожиданно самым безопасным из принимаемых решений, хотя объяснить свою неловкость и внезапно ослабевшие колени ростовщик не может.
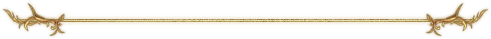
Дверь открывается со слабым щёлчком. Ручка поддаётся давлению и медленно открывает взор на обустроенные апартаменты. Если бы Вильям мог, он бы присвистнул. От восторга.
— Вау, — звучит в голове Хеля его воодушевлённый тон. — А у неё есть вкус.
Красные шёлковые простыни — почти неизменная классика. Красный — это цвет страсти и агрессии. Красный — это особое расположение духа. И Вильям неслышно заходит внутрь, утягивая за собой соратника за талию — с лёгкостью и настойчивостью одновременно. Они не общаются вслух, их мысли передаёт простейшая телепатия — базовое свойство многих жителей Аркхейма. В тишине слышны лишь плохо различимые скрипы половиц.
Здесь, в номере, царит идеальная чистота. В воздухе витает атмосфера безудержной чувственности: аромат иланг-иланга смешивается с розой, нос щекочут ноты дорогих духов. Воздух спёрт, и кажется, что становится трудно дышать. Тело обдаёт жаром, и Вильям усилием воли удерживается от того, чтобы не заразиться этой атмосферой. Пальцы, обтянутые плотными перчатками, ведут по поверхности дорогого комода: его гладкое полированное дерево скользит под кожей. Ни пылинки. И в центре картины — нагая последовательница культа Чернобога. Это зрелище завораживает.
На долю секунды Вильяму кажется, что он пьянеет ещё больше.
— Фанатка инквизиции? Стоп, что? Ты серьёзно?
Титанических усилий Вильяму стоит не смеяться вслух: он давит смех кулаком, сгибаясь пополам, и его лопытки исходят мелкой дрожью. Ладонь находит небольшой изящный стек на табурете около комода — в самый раз подходит, чтобы помахать им перед носом Хеля.
— Ты что, не знаешь, что это? И для чего?
В руках Вильяма эта плеть лежит как влитая: от изгиба локтей до властного касания пальцев. Он умеет этим пользоваться. Он знает, как сделать больно, он знает, как сделать приятно. В полусумраке комнаты уплощённый кончик плети касается его губ: тёмные глаза-жуки передают игривое настроение как нельзя лучше. Вильям издевается, Вильям смеётся. Короткая упругая плеть обжигает лицо Хеля: сначала холодом от прессованной в тугой узел кожи, потом едва ощутимой дорожкой вдоль линии нижней челюсти. Странной мыслью возникает в голове наваждение: что будет, если его ударить? Хель может разозлиться, может отстраниться. Заплакать? До смешного показательно бывает то, как человек выносит боль.
Этот стек, определенно, прекрасен в своих тончайших гранях и плавных линиях. Но понять это искусство может не каждый. Так же с людьми.
Вильям широко улыбается и бесслышно смеётся: в его глазах ни грамма похоти или смущения. Он пошутил — и всё как всегда. Он пошутил — и это ничего не значит. Плеть вновь водружается на своё законное место рядом с комодом, а Вильям направляется вглубь комнаты. Даже со спины чувствуется его приподнятое настроение: ему нравится провоцировать Хеля, ему нравится его задирать и смеяться над его деревянностью. Он чувствует себя кошкой, которая заигрывает с мышью: и знает, что та сторона «под лапой» может лишь пискнуть и укусить. Слабо. Недостаточно, чтобы перестать.
Иное дело — их ночная жертва. Её волосы разбросаны по подушке: глубокого каштанового оттенка, они шёлковыми локонами укрывают собой тончайшую бордовую ткань. И темноте ночи её расслабленное и счастливое лицо смягчается: она уже не кажется Вильяму такой отвратительной. Обыкновенно сомкнутые недовольные губы чуть оголяют края резцов, а злые глаза спрятаны под вуалями век. Ничего не выдаёт в ней нечто совершенно испорченное и извращённое: Вильям ловит себя на искушающей мысли.
Ей смерть к лицу.
Он встаёт у изголовья её кровати: лицо Женевы отвёрнуто от него в сторону в глубоком сне. Он будто напоследок смотрит в глаза Хелю, и во взгляде читается: «Ты точно уверен, что мой способ не самый лучший?» Но этот вопрос остаётся висеть в воздухе. Не озвученный, не даже переданный телепатической связью. Вильям знает ответ. Он начинает.
Тягучие чернила чёрного цвета покрывают ему руки. Его голова склоняется к Женеве ближе, едва дыша в лицо. Его первый символ остаётся зиять на коже, второй — на её висках. И первое ощущение от попытки вторгнуться в чужой разум — слабость. Руки медленно подкашиваются, тело сползает по поверхности изголовья кровати на пол. Вильям теряет физическую силу и теряет сознание. Знает ли Хель, что несколько часов назад он переживал это сам: падение в пропасть, которое снаружи выглядит как обморок? Теперь он может наблюдать воочию: борьба, которая не видна глазу, происходит где-то на задворках разума.
Они оба спят.
И там, за пределами чужих глаз происходит бой, который, к сожалению…
Остаётся проигранным.
Глубокий выдох, тяжёлый стон — и глаза жрицы распахиваются от ужаса, и она оседает на кровати, тяжело глотая ртом воздух. Будто её выдернули из сна, с силой придушив за шею. В её взгляде читается смесь злобы и возмущения. Чернильная надпись на её лбу тает бесследно, но Вильям не появляется следом. Оставшийся спать по ту сторону изголовья кровати, он не показывает ни лица, ни признаков жизни. Неопределённая пустота, в центре которой лишь двое. Женева и Хель. Вид странного искателя приключений заставляет жрицу съежиться от ужаса и натянуть покрывало до уровня груди. Она выхватывает нож, спрятанный за подушкой, озвучивая то правильное, что может сорваться с уст, и направляет оружие в сторону врага:
— Что ты здесь делаешь?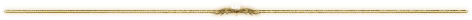
В том, каким взглядом напарник окидывает пространство, Хель видит… он хотел бы увидеть в этом угрозу, но чувствует нечто сродни восхищению, таким красивым азартом горят чужие глаза. Когда кончик плети касается щеки, ростовщик замирает. Прикосновение тянется вдоль линии нижней челюсти, заставляя стиснуть зубы. Что ты делаешь? - явно читается во взгляде хтоника, но двинуться он не может. Ожидание удара тянет где-то под ребрами, разливается ядом под кожей… и когда боли не следует, Хель чувствует почти разочарование.
Он не понимает, почему заворожен, почему очарован, почему в голове набатом звучат стихи, читаемые чужим тихим голосом. Рассказывать он об этом не станет — скорее всего, это одна из тех тайн, которые уносишь с собой в могилу, а последняя страшит Хеля все меньше с тех пор, как он познакомился с Блаузом. Ему нравится этот человек, вот о чем думает хтоник, когда напарник отворачивается. Так, как может нравиться предмет искусства, как нравится нечто красивое и неизменно недоступное. Нечто опасное.
Чужие слова врезаются в мозг не хуже кинжальных лезвий. Ты что, не знаешь, что это? Хель не уверен. Он снова оглядывается… И думает, что не хочет ничего понимать. Интуиция подсказывает, что происходившее здесь… что предназначение всех этих предметов — не то, к чему готов его неискушенный разум. Он думает о стихах, и чувствует горечь страха на языке. Он вспоминает, как Сзарин в его лавке склонялась над книгами, как ее руки бережно обнимали очередной фолиант… объятием, которое самому Хелю всегда будет недоступно — чьи бы руки ни потянулись к нему.
Щеку еще обжигает несвершившейся болью, когда Вильям склоняется над культисткой. Сейчас она выглядит спокойной, расслабленной — настолько, что легко забыть хруст удара под жестокой рукой. Но Хель помнит. А еще снова отводит взгляд, стыдясь заметить красоту обнаженной фигуры. Но на что он не может не смотреть — то, как чернила льются с рук Боауза.
Хель думает о том, что хотел бы это нарисовать: как темнеют глаза менталиста, как узор густых чернил покрывает чужие руки. Он думает о том, что нечто столь ужасающее не должно казаться красивым, но поделать с собой ничего не может. Было ли это так же красиво, когда Вильям покрывал узором магической вязи его, хтоника, кожу? Сейчас, когда дискомфорт не заставляет сжиматься, Хель понимает, что чужая магия завораживает. Чужая сила, возможность сокрушить чужой разум… он гадает, есть ли в мире что-то, более страшное? Гадает, что мог бы увидеть Вильям, реши погрузиться в сознание хтоника… на целое мучительное мгновение рот наполняется привкусом крови от мысли о тех кошмарах, что могут таиться внутри всего одного разума.
О том, что может таиться в разуме, в который погружается сейчас Вильям. Хель гадает, каково это — обладать такой властью, но без капли зависти. Он знает, что ему подобное недоступно — и будет всегда. Ему никогда не коснуться даже чужой руки, что уж говорить о чужом сознании.
Когда Вильям падает, Хель чувствует только страх. Тот ужас, который настиг его вместе со словами стихов — нежелание видеть напарника мертвым. Времени подумать не остается, девушка шевелится, и мгновением позже обжигает хтоника взглядом. Очарование спящего блаженства растворяется, как кофейная пыль в кипятке: девушка смотрит зверем, в недрожащей руке замирает нож.
— Что ты здесь делаешь?
- Прошу прощения, я… ошибся номером, - выдыхает ростовщик. Он не знает, что успела понять жрица, но ложь слетает с губ прежде, чем сам мужчина ее обдумает. В его руке только трость, не кажущаяся угрозой, а Вильям где-то по другую сторону широкой кровати, будто сошедшей со страниц любовного романа. Одного из тех, которые со смехом зачитывал Корвус, не обращая внимания на недовольство ростовщика. «Все естество леди Джоанны затрепетало, когда Годрик прижал ее к простыням… Хель, а что такое естество?» Мысль о том, что жрица поспешно натягивает на все свое естество покрывало, заставляет Хеля смутиться и отвести взгляд.
Что произошло? Почему она проснулась? Почему Вильяма не видно? Успел ли он найти нужные сведения? На эти вопросы у Хеля ответов нет, как и на самый важный: что ему сейчас делать?
Когда нож в чужой руке опускается, Хель едва верит собственным глазам. Жрица выпрямляется, смеряет хтоника взглядом…
- Как ты открыл дверь?
- Она… я не знаю… кажется, она была открыта… - ложь шита белыми нитками, да и в голосе у Хеля не слышно ни грамма уверенности… но жрица расплывается в улыбке.
- Ничего страшного, бывает, - любезно замечает она, позволяя покрывалу соскользнуть ниже. Хель не уверен, но кажется, она вообще не слушала, что он сказал. Ростовщик делает нерешительный шаг назад, целое постыдное мгновение готовый бежать, бросив напарника в стане врага… но все же не бежит, хотя взгляд улыбающейся девушки не сулит ничего хорошего. Она двигается, меняя позу, улыбается приторно-ласково… куда из ее рук девается нож, ростовщик не успевает заметить — так же, как сама девушка, очевидно, не замечает второго незваного гостя, растянувшегося за краем кровати. Не удивительно, ведь все ее внимание приковано к Хелю...
Он вспоминает собственные слова: что в соблазнении даст фору даже столу. Но жрица улыбается так, что кажется... кажется, хтоник все-таки ошибался.
Отредактировано Хель (2022-06-30 16:56:55)
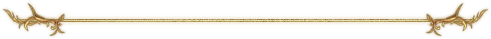
Море волнуется: раз, два, три.

Отсутствие контроля заставляет кровь в жилах стыть. Вильям не помнит, сколько мгновений он купался в океане за границами чужого разума и какой силой его выдернуло наружу. Выдернуло — и будто окатило ледяной водой, она проникла под одежду, намочила волосы, заставив чёлку прилипнуть ко лбу, осела на лице тягучей маской, плотно врастая под кожу. До кончиков дрожащих пальцев, до ненависти, растущей где-то в грудине. Как тысяча мелких игл, что впиваются в сердце, заставляя его изливаться в брюшную полость. Это чувство неприятное: боль «почти физическая», страдание «почти моральное» — состояние, которое сам едва ли понимаешь. Только то, что оно заставляет тебя трепетать от бессилия.
Вильям не выносит, когда его планы ломаются. Подобно искусно отстроенному карточному домику — всего от единственно неудачного движения руки. Когда они рушатся, когда что-то идёт не так, когда всё рассыпается в мелкое крошево. Он злится. В лице стирается привычная беспечность, улыбка превращается в гримасу хищника, готового рвать свою жертву зубами. Нижняя челюсть выдвигается вперёд, заостряются черты скул и в прорези глаз скользит то эфемерное, что объединяет их с кинжалами. С нижних век стекают тёмные чернила, касаются губ, огибают острый подбородок: со стороны кажется, что человек походит на монстра больше, чем на себя самого. Это так. Отчасти.
Перед взором лишь открытое окно, сквозь которое в комнату проникает воздух. Вильям всё ещё чувствует приятный аромат духов, масел и догоревших свечей, но запахи уже не пленяют его разум. Гнев сосет где-то под ложечкой, Вильям хватается ладонью за изголовье кровати и подтягивается вверх.
Очаровательная картина. Там, сзади, ему виден силуэт приятного стана: тонкой талии с плавным изгибом поясницы, с которой спадает одеяло, длинных волос, что крупными кудрями ложатся ниже лопаток. Вильям слышит голос: он приятный. Его тон звучит точно так же, когда он хочет кому-то понравиться — в голосе жрицы эссенция чувственности и любви. Выражение Хеля напротив — обескураженное и потерянное. Он врёт, и, признаться, у него неплохо получается. Хель ему сейчас нужен как никогда. Он его защита и опора, он самый лучший отвод глаз.
— Не выдавай меня, — звучит в голове ростовщика голос, когда Вильям приближается к жрице со спины. — Не выдавай. Не смотри даже в мою сторону.
Ему нужно пару секунд. Он точно знает, как действовать: бесслышно подкрасться сзади, схватить большую вазу, стоящую в углу. В мгновение, когда окажется, что жрица заметила двигающуюся за её спиной тень, оборонить её ей на голову.
Вильям любит осколки: в них нечто от хрупкости душевных сил и от поступков, которые оставляют неизгладимый след. В разбитых фрагментах любой вещи их смерть: она травмирует, стоит коснуться пальцами к острым граням. С людьми точно так же: они рассыпаются на осколки. Вильям мог бы подхватить жрицу, удерживая её от тяжёлого падения. Но он этого не делает. Его глаза следят за подкошенным движением тела и ударом головы о землю.
— Гуманные методы, гуманные методы, — причитает Вильям недовольным голосом в голове Хеля. — Если я откинусь раньше, чем остальные от твоих «гуманных методов», или слечу с катушек, это будет твоя вина! Она умелый менталист. У неё отлично получается защищаться.
И Вильям садится на пол. Его опущенная голова выдаёт крайнюю степень усталости и истощения. Он сердится на Хеля, он раздражён его мягким характером. Вильям подтаскивает к себе упавшее тело Женевы, утопляя в собственных объятиях. В её лице уже нет привычного умиротворения. Оно беспокойно и тревожно: словно у покойника, который видел, что на него возводят оружие за секунду до смерти.
— Такая сильная, такая смелая, — вслух шепчет Вильям, нежным движением убирая прядь волос, падающих на её лицо. — Как бы страшно ни было, она всегда защищает свой разум. Такая умница. Такой герой.
Её голое тело между колен у Вильяма, прижимается к нему спиной, с опущенной вниз головой, как у тряпичной куклы. И в его словах нечто, выдающее уважение. В его руках то, что называют страстью: то, как он касается внутренних поверхностей бёдер, едва разводя её ноги, как мажет губами по чужой шее вдоль позвонков — её тело ослаблено-податливо. Его — нежное до последней клетки организма.
— Она так…похожа на меня, — вслух выдаёт Вильям то, что хотел бы оставить внутри. — Я бы тоже сопротивлялся до самого конца.
Он ласкает её ноги: нежными движение водя кончиками пальцем до смуглых сбитых колен и обратно. В крепких объятиях есть одновременная мука и нежность: так оттягивают удовольствие у избранных любовников, так их мучают, пока они не дойдут до грани. Вильям касается губами чужих скул, его пальцы вновь рисуют на щеке жертвы узор, чтобы проникнуть в её разум. Он засыпает так же крепко, как она. Его нос утыкается в мягкие очертание чужой щеки.
В этот раз у него получится всё. Или почти.
Этот тонкий момент…удаётся вырвать их чужих рук. Вильям просыпается первый, но в его глазах далеко не удовольствие от победы. В них страх: Хель может заметить это по сбитому дыханию и взгляду, который наплавляют на него. В первые мгновения Вильям почти обезоружен: он отталкивает Женеву от себя, и она просыпается. За минуту, когда она приходит в себя, Вильям успевает связать её запястья ремнём от брюк. Его едва заметно трясёт. Так даже сильный человек выдаёт, что ему страшно.
— Кто вы? — звучит её уже испуганный голос. — Что вы тут делаете?
Она смотрит на Хеля, и в её глазах наливаются слёзы: в ней не остаётся ничего от злобной женщины, что могла рукой, как плетью, стегнуть беззащитное существо. Сейчас, обнажённая, связанная, она сама беззащитна. И ей не нравится Вильям: ей нравится Хель. Он не внушает ей чувства опасности, Женева, к удивлению, понимает, от кого исходит опасность на самом деле.
— Сними защиту, — строго говорит Вильям, поднимаясь с пола. Он уверен, что жрица его прекрасно понимает.
— Нет. Что вы сделаете со мной?
Её лицо становится красным от застилающих слёз. Она хрипит, глотая влагу дрожащими от страха губами. Её съеживает в квадрат лиловых стен: будто существо, которое хочется казаться меньше и спрятаться.
Вильям прекрасно понимает её в глубине души. Они похожи: он бы защищал свой разум до последнего как самое дорогое, что есть у ментального мага. Жрица заходится истеричным плачем, в котором невозможно связать остатки её речи. Она хрипит, переходит на громкость, и тогда Вильям тяжело выдыхает. Он оборачивается на Хеля с печальным взглядом, произнося вслух одну единственную фразу:
— Не смотри.
Его рука достаёт из кобуры в пистолет с глушителем. Холодное дуло прижимается к горячему смуглому лбу, отводя в сторону кудрявую прядь волос. Мгновение и слабый глухой звук: пол окрашивает бордовым, и жрица падает навзничь, чтобы уже никогда не проснуться. Вильям не отводит от неё взгляд: её грустная бессмысленная жизнь утекает на его глазах вместе с ручьями крови.
Он привык. Он убивал сотни раз. Его рука не дрогнула ни на мгновенье. Ни тогда, когда Женева подалась вперёд, желая прильнуть к его ногам. Ни тогда, когда упала на пол в лужу собственной крови.
— Хель, — ласково прозвучал в голове ростовщика голос. — Посмотри на меня.
Вильям подошёл к нему вплотную, беря в руки его лицо, касаясь чужих скул большими пальцами. Хель мог чувствовать: ладонь, что осталось без перчатки, мертвенно-холодная. Вильям смотрит на него другим взглядом, будто не он секунду назад хладнокровно убил человека.
В глазах Вильяма беспокойство, в глазах Вильяма участие. Он так близко, что можно почувствовать его учащённое рваное дыхание напротив. Его лицо выдаёт сочувствие — не к жрице, а к Хелю — в глазах столько желания утешить, что вывод напрашивается сам собой.
Он удачно мимикрирует. И даже непонятно, в какой момент он был настоящий.
— Всё закончилось, — шепчет он в чужое лицо. — У нас есть несколько минут. Обыщи это место. А потом нам нужно уходить, чтобы нас не нашли. 
Мир сжимается до глаз, смотрящих с надеждой, со смесью восхищения и интереса. Хелю под этим взглядом некомфортно, неприятно, будто от случайного касания чужой руки в толпе. Он замирает, смотрит на девушку — сам знает, что затравленно. Он плохой лжец, но девушка не слушает, и Хель чувствует: все, что с ней будет — только его вина. Но все равно… когда за краем кровати, позади жрицы, он замечает другой взгляд — знакомые темные глаза, полные ужасов, таящихся во тьме… он почти счастлив. И едва заметно выдыхает.
Не выдавай меня, - просит Вильям, и Хель слушается. Он не смотрит на Блауза, приковав взгляд к лицу культистки. Он уверен: это лицо запомнится ему во всех деталях. Разрез глаз с плещущимся в них высокомерием, искусанные губы, смуглая кожа, тронутая румянцем интереса. Разметавшиеся кудри скрывают то, что не может скрыть спущенное до талии покрывало. Протянутая ладонь замирает беспомощной лодочкой… Вильям за ее спиной — как тень, как неумолимый палач. И за миг до того, как на голову девушки обрушивается удар, Хель видит в ее взгляде… почти невинность. Красоту искренней симпатии, красоту души, которую ему никогда не узнать — которую никто никогда не узнает. Может, и сама девушка не предполагала в себе такого.
Она падает — как кукла, и Хель вздрагивает. Слабость выдает его каждым движением — тем, как он спотыкается, тяжело ударяется спиной о комод… пальцы до белоты, до онемения сжимают рукоять трости. Ростовщик не может сделать вдох — воздух застревает в сжимающемся судорогами горле. Хель чувствует себя предателем, хотя едва ли сможет ответить, кого же он предал.
В движениях Блауза — лишь усталость, измождение утомленного мага, а слова врезаются в мозг… Гуманные методы? Хель все-таки выдыхает, кое-как выпрямляется, опираясь о комод. Ему кажется, что ноги не держат, страх сворачивается где-то в желудке, а глаза едва верят происходящему. Вот напарник садится позади жрицы, вот притягивает ее к себе… В движениях Блауза столько нежности, сколько не испытать некоторым людям за всю жизнь. Мягкие движения пальцев, ласкающих обнаженное тело… Хелю почти стыдно смотреть, но и отвести взгляд он не может. Даже зная, что этот образ будет преследовать его каждый раз, когда пальцы коснутся пера, когда он раскроет блокнот на нетронутой чернилами странице…
Слова Вильяма, обращенные к хтонику, словно упрек, врезающийся в самое сердце. Тихий шепот у шеи жрицы — нежность умелого палача, признание в любви. То малое, что заслуживает его жертва. Хелю жаль эту девушку, как было бы жаль любое живое существо. И когда Вильям замирает в подобии сна… ростовщик позволяет себе шальную мысль, надежду, что все закончится хорошо. Что они уйдут, вернув прекрасное женское тело в объятия покрывал, что она будет дышать и увидит продолжение оборвавшегося сна, подарившего ей такую красивую улыбку. Обнаженное тело уже не волнует хтоника, его мысли тронуты тем, что таится под кожей девушки — ее пульсирующей жизнью.
Но хватает мгновения, чтобы от надежды ничего не осталось. Хтонику кажется, что сам он разбивается на осколки — такие же, как хрупкие останки вазы на полу. Что ты увидел? Что тебя так напугало? А он видит, что Блауз напуган — в том, как дрожит чужое тело, как напряжение касается плеч… как Вильям умело отводит взгляд, не позволяя утонуть в ужасе, поселившемся на дне завораживающих глаз. Девушка оживает мгновением позже.
- Вильям, может быть…
Ростовщик не может договорить, слова застревают в горле. Он спотыкается о собственную трость — и об обращенный к нему взгляд культистки. Знает, что будет помнить его всю жизнь. Надежду и мольбу, от которых он отвернется… пожалуйста — читает Хель в ее глазах. Пожалуйста-пожалуйста-умоляю, - мысленно шепчет он сам, держась за трость так, словно в ее силах что-то исправить.
Вильям, пожалуйста…
— Не смотри.
Он знает, что виноват. Что все это его вина, но все равно отворачивается — и ненавидит себя за это. От звуков никуда не деться. Хель вздрагивает, когда девичье тело безвольно падает на пол. Кажется, он может услышать, как кровь заливает полы, впитываясь в ковер. Может слышать невысказанную просьбу девушки. Она не произнесла этого вслух. Не попросила, хотя ее глаза умоляли… что бы она ни сделала, что бы ни могла еще совершить — Хель чувствует себя вором, укравшим святыню чужой жизни. Ему не нужно пачкать руки, чтобы безропотно принять вину на себя. Он знает, что виноват — потому что ошибся с самого начала. Гуманные методы. Он мысленно повторяет это и закрывает глаза, хотя все равно едва ли может что-то увидеть. Слепо цепляется пальцами за край комода… боль рвется откуда-то из подреберья, начало болезненной судороги в одном невыдохе.
Хель гадает, было бы так же больно, если бы ранили его. Не понимает, почему так охотно берет на себя то, что, кажется, не может взять напарник. Движения Вильяма казались отточенными, уверенными — то, как он достал оружие, как прижал дуло к девичьему лбу. Хель не смог бы так. Он знает — и ненавидит себя за это. И ненавидит Вильяма за то, что… он сам не может сказать, за что. За то, что надежда взорвалась в груди, как разбитая ваза.
Хель.
Он качает головой.
Посмотри на меня.
Прикосновение чужих рук впервые не обжигает… потому что хтонику больно и так. Он знает, что Женева еще придет к нему ночью. Каждой ночью, когда он сможет закрыть глаза. Он знает, что не забудет ни ее имени, ни лица. Ни мольбы, на которую не смог ответить… не смог… почему? Сейчас он чувствует себя убийцей — ведь можно было шагнуть вперед, можно было… удержать Блауза. Можно было разменять чужую жизнь своей? Сколько еще вины можно взять на себя за то, что забыл пожертвовать своей шкурой?
Хель открывает глаза, впивается во взгляд напарника с готовностью смертника. Все чувства хтоника — как на ладони, не нужно быть менталистом, чтобы разглядеть боль, вину и прорву ненависти в затравленном взгляде. Ненависти к Вильяму. К Женеве. К себе. Пальцы сводит от напряжения. Трещина ползет по щеке уродливой темной линией. Наверняка Вильям чувствует ее неровность под пальцами.
Хель не двигается. Сейчас он чувствует себя пойманным зверем: руки Блауза хуже любой ловушки. И он бьется в этих силках невидно, бессильно и безнадежно. Ты и меня убьешь? - вопрошают его глаза. На то чтобы даже подумать, сил не хватает. Убьешь так же? Приставишь дуло ко лбу и… и что?
Но забота в чужом взгляде кажется такой настоящей… что Хель теряется. Кто ты такой? - спрашивает он. Кто был реальным, а кто — лишь образ. Умелый палач, убийца без капли сомнения… или тот, кто читал стихи, кто сейчас смотрит с таким вниманием. В любом случае, понимает Хель, чудовище — не сказочное, а самое реальное, умеющее причинять боль. И превращать ее в наслаждение.
— Всё закончилось. У нас есть несколько минут. Обыщи это место. А потом нам нужно уходить, чтобы нас не нашли.
Ничего не закончилось, думает Хель, но вслух не говорит. Рот наполняется кровью из прокушенной губы, ростовщик отстраняется так, словно чужая ладонь может прожечь его щеку. Отводит взгляд, будто признавая поражение, но не признавая собственной слабости. Она останется невысказанной — как многое другое, как мысль, что Хель мог бы все изменить… как мысль, что он может жить дальше с этой тяжестью в сердце.
Ему нужно собрать все свои силы, чтобы стоять прямо. А затем — чтобы сделать шаг. Он едва верит тому, что магия охотно подчиняется, разливаясь полынью на языке. Магия слушается лучше, чем собственное тело: дрожь бежит по пальцам, заставляя наконечник трости глухо стучать по ковру. Едва слышно. Тише — только стук сердца, предательски замирающего от боли. И, что еще хуже, от постыдной радости: убил все-таки другой.
И этот другой все еще жив — как будто это дает право испытывать облегчение. Мертвая девушка не согласится с ним. Хель старается не смотреть на нее, но не может — и еще один образ врезается в его память. Бледное тело в луже крови, кажущейся почти черной во мраке. Ты и сам чудовище. Смеешь ли ты считать монстром другого?
- Вон там. Ее вещи, - выдыхает Хель. Голос не подводит, рука неровным жестом показывает чуть правее кровати. Хель не видит, что там, мрак скрывает все, а что неподвластно мраку, скрывает пелена перед взором хтоника. Он чувствует лишь оттеск чужой энергии, но осмотреть находку не решится. Затем дрожащая рука взлетает выше, и Хель неуверенным и неровным движением стирает кровь, скатывающуюся по подбородку. По позвоночнику ползет холод — могильный, как в склепе…
- Прости, - выдыхает Хель, сам не зная, перед кем извиняется. И отступает назад, с силой ударяясь о комод или стол или… он не знает. Дрожь пробивает сперва руки, потом — всю верхнюю половину туловища. И хтоник давится кашлем — глухим из-за прижатой к губам ладони.


Глаза напротив смотрят с ненавистью. В них одна простая мысль:
— Ты чудовище.
Вильям смотрит на них, не отрываясь. В его обеспокоенным лице нежность — почти материнская, в его жадных глазах — внимательность, равная человеческой. Он гладит Хеля большими пальцами вдоль скул, обжигает своим горячим дыханием чужое лицо: в этих касаниях утешение — такое же бесполезное, как и его слова.
— Я чудовище, — вторит себе Вильям, и эта мысль не отзывается болью в его груди.
В ней совершенная пустота.
Хель отодвигает от него лицо. Вильям убирает руки в карманы. Тяжёлое мгновение он не смотрит на своего союзника, ощущая под рёбрами острое жало, впрыскивающее яд в жилы. Его нельзя увидеть, его нельзя потрогать: просто вместо головы жрицы на полу Вильям видит голову Хеля, простреленного в области виска. Его бессильно подкошенные ноги и тело, заваленное набок, откинутую в сторону трость. А рядом — силуэт безутешного Корвуса. Чудесной птицы, которой он, Вилл, купил мидии.
Будто пытаясь откупиться заранее. Будто за две ночи «до» вымаливая прощение.
Вильям ненавидит себя в это мгновение. Пистолет оказывается убран в кобуру, а перчатка натянута на голую ладонь: больше никого за этот не вечер не коснутся его вечно холодные руки. Зачем он царапает себе сердце, касаясь души чужого человека? Вильям с головой профессионала уходит от Хеля вглубь комнаты: прячет в карман гильзу от пули, вытирает салфеткой следы их отпечатков пальцев от мебели и плети. Протирает даже собственный ремень на запястьях жрицы: чтобы на нём не осталось следов для дактилоскопии.
Маленький мешочек около кровати, от которого Хель заметил свечение, остаётся бережно спрятан в карманы брюк. Вильям после извлечённого воспоминания точно знает, что искать. Он почти готов к финальному аккорду их «театра», но начинает слышать кашель.
— Что с тобой?
Он видит, что Хель не может объяснить это словами. С его губ срывается «Прости» — и Вильям точно чувствует, за что он извиняется. За слабость.
— Нет-нет-нет, ты что? Ты куда? — тревожно тараторит он, подбираясь к Хелю ближе и хватая того за плечи. — Это от нервов, да? Друг мой, не сейчас. Очнись. Не время умирать. Не здесь! Нам надо…нам надо…
Вильям видит, что всё хуже, чем он предполагал: двумя изломами по щеке Хеля тянутся трещины, они как дефект мраморного пола — выдают слабые места. И Вильяму становится страшно: ни разу более он не видел такой реакции на стресс. В голову отчётливо ударяет мысль: он не хочет, чтобы Хель умирал сейчас.
У него есть ещё два дня. Два дня, чтобы насладиться обществом этого прекрасного человека. Он не даст ему просто так погибнуть.
— Ерунда. Это всё ерунда, слышишь?
Он пытается подхватить его под руки, когда Хель падает на пол. Его судорога становится невыносимой взгляду, и Вилл на секунду замирает: он не знает, чем ему помочь. Пальцы Хеля тянутся к шнуровке жилета, и Блауз догадывается, что ему трудно дышать. Он помогает ему расшнуровать верхнюю одежду, стягивает её с плеч и отбрасывает в сторону, не дожидаясь просьбы. Кажется, сейчас Хель вообще не способен просить о чём-либо.
Это…страшно. Вильям чувствует, как дрожит под пальцами чужое тело, как человек исходит судорогой и кашлем. И стоя перед страдающим на коленях, он делает рывок вперед, чтобы обнять его за плечи и прижать к себе.
В его руках Хель болезненно вздрагивает: кажется, пытается уйти от прикосновения. Но Вильям его не отпускает: в его крепкой хватке есть нечто от спасения от падений и нечто от удавки ужа. Он приподнимает плечо, заставляя Хеля вжаться в него носом и половиной лица. Так Вильяму кажется, что его тоже обнимают в ответ. Хотя он знает: его фантазия сама придумывает место отклика.
Сквозь хриплые звуки Вильям пытается с Хелем говорить:
— Ты не виноват. Хочешь ненавидеть меня — ненавидь. Ты имеешь на это право. Но если ты хоть на секунду решишь, что мог что-то исправить…то нет. Смирись: я действую быстрее, чем ты думаешь. Меня этому обучали. Не кори себя за то…что всё так вышло. Я сделал, что мог. Я разбился вдребезги. Я…беру на себя вину, если тебя это тревожит.
Левая рука в перчатке прижимается к чужим волосам. Кажется, Вильям сквозь кожу чувствует эти жёсткие непослушные волосы от густой шевелюры ростовщика. Он улыбается, но его улыбка болезненная:
— Я ведь убийца. Ты знал об этом с самого начала. Но тебе не обязательно…становится таким же, как я. У меня был свой путь. У тебя свой. Пожалуйста, вспомни: это было моё решение. Ты пытался меня остановить. Но правда в том…
И Вильям улыбнулся изломанной улыбкой, прижав Хеля ближе к своему телу. Последние слова звучали тепло, почти любовно — словно их когда-то произносили самые любимые люди:
— Что я никого не слушаюсь.

Первой приходит боль — всегда, и Хель с готовностью ныряет в нее с головой. Будто если отдать ей сознание, перестанет терзаться тело: но нет. И судорога ломает пальцы. Воздух застревает в горле, мешаясь с пеплом, с прахом, со смертью, которую так или иначе каждый носит внутри себя.
Пелена перед глазами стирает очертания комнаты, силуэт союзника и недруга, мертвое тело в нескольких шагах впереди — и память выбрасывает Хеля туда, где он в какой-то мере остался, откуда никогда и не уходил. Спина прижимается не к комоду, а к холодному камню, царапающему выступающие позвонки. Хель задыхается и загребает пальцами, но не чувствует, как те путаются в шнуровке жилета, в них — только перестук мелких костей, царапающих ладонь. Крик застывает в горле.
Друг мой…
Голос доносится как сквозь толщу воды, тело стремится уйти от прикосновения, но пальцы спустя мгновение впиваются в хрусткую ткань чужой рубашки. Ладонь жаждет коснуться чего-то живого — неважно, что это будет. Пусть даже кто-то, несущий смерть.
Я не умру, - хочет выдохнуть хтоник, но из горла рвется лишь кашель вперемешку с хрипами, с клокотанием бесполезного воздуха. Рот наполняется вязкостью пепла, сгустившего кровь. Хель помнит: это пройдет, но от страха никуда не деться. По сравнению с ним сам ростовщик — как камень на дне морском. И он действительно тонет, задыхаясь, пока тело поддается каждой следующей волне дрожи.
Хель знает: глупо бояться смерти, она ведь придет за каждым. Но думается, однажды он уже умирал — и тело еще помнит ту пустоту, тот безнадежно жестокий холод. Перед глазами вместо чужого лица мелькает серость гранита с выбитыми в нем буквами чужих имен. Из них Хель сложил свое имя, даже не ведая, что в одном из далеких миров так может зваться царство мертвых.
Он не чувствует чужих рук на своих плечах, не чувствует, что сильнее утыкается лицом в подставленное плечо, пачкая свежесть чужой рубашки кровью и пылью. Боль с каждым ударом сердца вынуждает сильнее цепляться за чужое тело, предложенное с такой готовностью. Хель уже не помнит, где он и кто. Лавка, Корвус, кровь в двух шагах впереди, впитывающаяся в ковер… все стирается, и он снова там, где всегда больше всего боялся вновь оказаться. В склепе.
Хель думает, что ожидание смерти хуже, чем сама смерть, но все равно страшится. Каждый раз, когда судороги ломают тело, он почти уверен, что умирает. И боится, что смерть — это тот самый склеп, косточки, впивающиеся в тело, сбитые в кровь пальцы, которыми силишься отыскать хоть что-то живое. Я не умру, - мысленно шепчет Хель. Пожалуйста, я ведь не умру? - спрашивает в следующее мгновение.
Чужой голос — едва слышен. Но Хель все равно цепляется за него. Ерунда. Это все ерунда, слышишь?
Слышу.
Уйди. Хель ненавидит себя за слабость, за то, что не может удержать рвущуюся дрожь. За то, что знает: боль стирает узор чернил на его теле, заостряет каждую кость, делая похожим на чудовище, от которого шарахались люди. Что угодно лучше, чем видеть отражение собственных затянутых мраком глаз. Какое право имеет ростовщик считать убийцей другого, если и сам… он помнит: предсмертный хрип, остекленевший взгляд. Тепло чужой крови на ладонях, слабо напоминающих человеческие. Пусть собственное тело является клеткой! Пусть! Если это клетка для зверя — он скует себя каждой косточкой.
Не уходи. И все-таки как страшно! Страшно, что вдруг этот раз — последний. Из горла рвутся рыдания, но слез нет, а пальцы скребут, царапая чужое плотно прижатое тело. Хель не чувствует боли от чужих рук, он сам сейчас — одна лишь боль. Почти лишенная стыда, жаждущая лишь выжить. Хель ненавидит в себе этот страх, ненавидит это слепое стремление зверя спасти свою шкуру. Ненавидит так сильно, что с готовностью подставит шею под нож.
Вильям никогда не узнает, но Хель обнимает его в ответ — болезненно цепляется, содрогаясь снова и снова. Теряясь не в пространстве — во времени. Ворвись сейчас менталист в его сознание, потеряться бы мог и сам. Утонуть.
Ты мне — о прошлом, о своем кошмаре, о трещинах в измученной груди…
В голове Хеля стихи мешаются с биением сердца. Уйди. Не уходи. Убей меня. Останься! В пальцах бьются осколки тысячи ваз, сквозь кожу прорывается скол позвоночника — как топорщащееся стекло. Ты убьешь меня?
Под шелест чужих слов хтоник жмется к ледяному граниту. Царапает пальцами горло, будто желая сдержать вой. Он — свое собственное царство мертвых. Добыча охотника, бежавшая из капканов под хохот и свист. Чудовище. Он — хищник, случайно, по глупости оборвавший целую жизнь. Бесконечное число лет назад… но все равно убийца. Такой же, как… он не помнит. Боль вонзается в грудь — под ребро, но от нее нет никакого толку. Хель не знает, где больно… он не знает, когда.
Для Хеля боль — как целая вечность. Еще об одном Вильям никогда не узнает: приятно чувствовать кого-то подле себя. Чувствовать тепло человека. Хель не признается, даже темноте не доверит эту тайну. В ней больше личного, чем в касании к обнаженной коже. Но Хель чувствует: не один. Чужое тепло обжигает пальцы — бледные, почти растерявшие узор чернил, тронутые лишь изломами трещин. На шее старый амулет - как удавка.
Хель выныривает к концу чужой речи. Он слышал ее — едва-едва. Но последняя фраза врезается в изувеченный разум. Хель вздрагивает последний раз и замирает. Сил двинуться нет, боль покидает сперва самые кончики пальцев, а после блаженное спокойствие ползет по рукам. Кашель замирает, и вместо него Хель делает полноценный вдох. Во рту клокочет сгустившаяся кровь — но ростовщик уже не задыхается.
Он вспоминает, где он.
Кто он.
С кем.
Отредактировано Хель (2022-07-02 18:17:19)

Вильям замирает.
Его пальцы останавливаются на чужой вспотевшей шее. Он чувствует каждый болезненный вдох, вырывающиеся наружу хрипы, он слышит рыдание, в котором слёз нет — только звук. Это ощущение сродни события застигнуть кого-то врасплох. Вильям не хотел бы, чтобы в минуты его стенаний его слышали чужие уши и смотрели терзающие глаза. Он не любил, когда его слабость видел кто-то, кроме тесных временных стен. Слабость — слишком личное. Слабость — то, в чём его никто не должен заподозрить. А Хель так выворачивает душу, что невольно теряешься от подобной откровенности: будто бесстыжим взглядом смотришь на потрошённые внутренности другого, но не можешь отвести взгляд.
Вильям чувствует себя чужим. Он чувствует себя лишним. Недостойным. Как имеет право палач утешать свою жертву: вытирать слёзы, прикасаться к взъерошенным тёмным волосам, заботливо гладить по голове, — чтобы после подвести на плаху и опустить на её шею тяжесть гильотины? Вильям вжимается в плечо Хеля, утыкаясь в основание шеи. Он за два шага до подобной истерики: он не хочет его убивать.
Чужая боль заразительней даже больше чужого смеха.
И Вильям чувствует, как сердце бешено колотиться в его груди. Этот набат ударяет в уши оглушительным барабаном, сжимает грудину в тисках. Он хочет успокоить, он должен сказать, что всё кончено. Его пальцы находят на чужой щеке излом кожи: примерно такой же рубец останется у него на сердце, когда он покончит со всей этой мукой. Когда он покончит с Хелем.
Слова застревают в горле. Взгляд теряется в тенях окрашенных полутьмой стен. Вильям видит их силуэты: очертания взъерошенных волос и переплетения тел друг с другом. Они похожи на комок двух змей, что пытаются бессмысленно друг о друга согреться. Вильям никогда не станет другом Хелю: как иронично жрица намекает на то, чем для одного из них закончится это приключение. Трупа будет два. Как минимум. Вильяму хочется подвести пистолет уже к своему виску. Он паршивая лживая тварь, он…
— Что ты...?
Тело вздрагивает. Вильям чувствует чужие пальцы, царапающие его сквозь рубашку. В этом жесте столько боли. В этих пальцах такие реки: они словно выковыривают чужое тепло из-под слоя одежды, доставая наружу. Они будто хотят залезть под самые рёбра. Вильяму хочется спрятаться от настойчивых прикосновений: он рефлекторно втягивает живот, подаётся назад, но чужие пальцы его находят. И в этот момент он чувствует себя беззащитным: он сам угодил в клетку, которую создал для другого. Больно.
Пульс становится почти спокойным. Сердце прекращает попытки выпрыгнуть из груди, и лицо Вильяма вновь становится безмятежными. Чужие пальцы лишь немного царапают его кожу. Эти белёсые полоски пропадут достаточно быстро. Не останется следа — в отличие от сердца. Оно ещё долго будет кровоточить.
Хрипы становятся меньше. Вильям отпускает хватку и видит лицо Хеля напротив. Его глаза теряют отблески безумия и концентрируются на нём. Вильям лживо-приторно улыбается, взъерошивая Хелю волосы, как мальчишке:
— Старина, ну ты и напугал меня, — в заслонённых веками улыбчивых глазах не видно ни грамма радужной оболочки. — Я думал, ты откинуться собрался. Встать можешь?
Вильям вскакивает первым, потягивая Хеля за собой под локти. Чужое тело ослабленное и невесомое: Хель переступает с ноги на ногу, неуверенно держа вес. Кажется, остатки пепла ещё сходят с его кожи, а в горле что-то едва слышимо хрипит.
Вильям выдыхает.
— Не дёргайся. Будешь сопротивляться — я тебя вырублю.
Прямые чёрные волосы наклоняются вперёд вместе с головой. Вильям перехватывает Хеля под бёдра и взваливает себе на плечо, выпрямляясь. Базовая магия стирает с него следы чужой крови, усталость ночи стирает намёки на алкоголь. Тело Хеля лёгкое, почти воздушное: он весит не больше девчонки. Проведи пальцами по рёбрам: их можно пересчитать вручную. Его жилет Вильям поднимает, подтягивая носком к собственной ноге.
Ночью их никто не видит: от покоев жрицы до покоев Хеля одна дверь. Вильям скидывает тело ростовщика на диван: тот со скрипом принимает на себя груз взваленного на него человека. В кромешной темноте ладонь Вильяма находит бархатную поверхность пледа и почти вжимает её в грудь лежащего.
— Спи, — бескомпромиссно кивает Вильям, но в его голосе нет приказного тона. — Я завтра всё расскажу, что увидел. Доброй ночи.
Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: эта ночь не будет доброй. Не будет спокойной. В ней будет драма и погорелый театр: но Вильям уже не узнает, услышит ли это Хель за той стороной двери или то останется для него тайной.
Как он выстрелит в окно, чтобы разбудить соседей.
Как заметёт все следы.
Как устроит настоящее представление перед администрацией отеля: с дрожью во взгляде будет рассказывать о звуке пальбы за стенкой, описывая драку. Как попросит жандармов, как вызовется быть понятым. Эта ночь будет пропитана ложью: тягуче-чёрной, как магическая вязь ментальной магией. Приторно-сладкой — как фальшивая улыбка.
Которую оставят Хелю напоследок перед тем, как хлопнет входная дверь.
Первое, что видит Хель, что он осознает: лицо напарника в опасной близости от собственного. Бледное в полумраке, еще хранящее следы усталости. И следы страха, следы некой искренности, которую Блауз позволяет себе нечасто. Но Хель их видит: в том, как сужается взгляд, как взлетают брови. Идеальная маска, ничем не уступающая тем, что можно купить к карнавалу, только глаза… глаза живые. Затягивающие, как омут, из которого уже не выбраться.
Хелю тяжело двигаться, и он не сопротивляется ни единым жестом, когда Блауз помогает подняться, когда забрасывает на плечо. Хель почти исчезает в эти моменты, весь мир сужается до чужих прикосновений к обнаженной — к обожженной, - коже. Сил не хватает даже стереть нить крови, протянувшуюся от губ к подбородку. И когда Блауз толкает союзника на диван, ростовщик цепляется за протянутый плед. Ему не больно — и это все, о чем он может думать. Пальцы впиваются в бархатистую ткань, и Хель думает-думает-думает…
Ему не хватает Корвуса, готового уткнуться в подставленную ладонь. Не хватает уюта лавки с тихим перезвоном подвешенных под потолком колокольчиков и ловцов снов, бесчисленных амулетов и узелков. Ему не хватает чего-то… обыденного. Он почти не слышит Блауза, но какое-то глупое, отчаянное мгновение борется с собой, чтобы не протянуть к уходящему ладонь.
Он думает о том, что порой между людьми образуется связь. Хорошо, когда это прочная нить дружбы или алый росчерк симпатии, интереса… но порой, как сейчас, эта связь — оковы колючей проволоки на запястье. И Хель не знает, но чувствует: с Вильямом то же самое. Страдание связывает так, как не может связать ничто иное.
Хель знает, что для Блауза ночь не кончилась, но сам ускользает в сон с готовностью бросившегося с небоскреба подростка. Бездна затягивает его, принимая в почти ласковые объятия — после пережитой боли он всегда спит крепко. Будто покойник, думает он, впиваясь стирающимся взглядом в часы. Он засыпает под их мерный стук. Кажется, прежде, чем успевает закрыться дверь.
Утро подкрадывается исподтишка.
Хель просыпается от резкого стука за стенкой. Вероятно, не первого — сколько еще было звуков, шума в тесноте коридора. Суматохи, суеты, безумия, всегда следующего за чьей-то смертью. Хель вспоминает распростертое на полу девичье тело — и ему становится тошно. Он поднимается рывком, сбрасывая плед, прижимает пальцы к шнурку на шее… он не помнит, не понимает, почему раздет. Но боли нет — и это самое страшное. Он видит лицо покойницы в каждом блике света, пробивающегося сквозь шторы. Он ждет, когда станет больно — но тело не слушается.
А взгляд цепляется за яркое пятно презента на столе. Аккуратно упакованный контейнер с мидиями. Корвус ждет в лавке. Думая о друге, ростовщик поднимается, выпрямляет спину, мажет взглядом по привычному полотну узора на руках без единой трещины. Сон был спокойным. На удивление спокойным. Хель думает, что не заслужил его. В прикосновениях одежды к коже он чувствует совсем другие — обжигающие касания чужих рук, обтянутых алой тканью перчаток. Он вдруг думает о том, что должны значить эти перчатки. Почему красные? Хель вспоминает ядовитых насекомых, чей яркий окрас — предупреждение о грядущей смерти.
Одной рукой Хель сгребает со стола подготовленный подарок, другая привычно ложится на рукоять трости. Ростовщик гадает, различит ли друг чужака, притаившегося в знакомых чертах. Что бы ни шептал напарник, прижимаясь лицом к его шее, Хель надевает вину, словно петлю висельника. С готовностью, почти с желанием. Это его расплата.
Лавка встречает его привычной тишиной и тихим шелестом крыльев под потолком. Перемещение беззвучно и безупречно — но Корвус вздрагивает и поднимает голову, отзываясь на присутствие друга. Хель улыбается, вернее, пытается: кривит губы в гримасе и поспешно отворачивает лицо, маскируясь за разворачиванием подарка.
- А ты не торопился, - ворчит птица, синей вспышкой слетая к прилавку. - Так что? Все? Дело…
- Нет, - хтоник давит улыбку, опускает взгляд, и его ладонь предательски дрожит. Он не расскажет. И Корвус знает — читает это в каждом движении друга. В том, как на миг дрогнули ресницы. Как губы исказили улыбку. Но молчит. Самое страшное никто из них не озвучивает: в каждом доме свои законы.
- Что здесь? - клюв тычет в еще не распакованный контейнер, а когда обертка снята… - еда?! Хель, тебя подменили? Где ты это взял? Погоди! Это… это мне?! Хель! Хель, посмотри на меня! Тебя кто-то проклял? Это же настоящая еда! Это… как же вкусненько выглядит!
Хтоник ничего не может поделать с собой: ему радостно видеть, как клюв тянется к контейнеру, как птица недовольно отпихивает стремящуюся помочь ладонь человека, когти безуспешно скользят по боку незатейливой посуды. Из горла вырывается смешок… и Хель прижимает ладонь к губам, задавливая истерику в зародыше. Он спокоен. Он не может волновать друга, особенно, когда тот счастлив.
- Это от Вильяма. Для тебя.
- Хель, ну что ты стоишь! Помоги, открой эту проклятую банку! Я сейчас умру от голода! Вот если бы ты с каждой своей дурацкой миссии возвращался с такими подарками… Какой хороший парень этот наш Вильям! Какой славный! Я как его увидел, сразу понял: золотой человек. Ну открывай же!
Хель уже не слушает. Он прислоняется боком к прилавку, помогает открыть контейнер… клюв немедленно устремляется к лакомству. Всего день, думает хтоник, прошел всего день — даже меньше, но он соскучился по товарищу. Всего день… а он чувствует себя стариком. Чувствует себя уже совсем не тем, кто вчера вздрагивал от протянутой к нему ладони. Что же будет дальше?
Узнает ли его Корвус, если Хель вернется? Он даже не замечает, что и мыслено произносит не когда, а если. Он думает о том, что будет, если все закончится так, как боится сердце: где-то в темноте, с последней вспышкой боли. Гадает, придет ли Блауз забрать подаренный череп. Что скажет Корвусу. Скажет ли хоть что-то.
- Уже уходишь? - замечает птица, когда Хель выпрямляется. Хтоник протягивает ладонь, нежно касается перьев — мягких, хотя на вид всегда режущих сталью. Клюв спустя мгновение бодает руку. И ощутимо клюет запястье — куда-то в щель между кожаных полос браслетов.
Солнце сядет и завтра проснётся рано.
успокой и скажи, что зимы не будет.
- Я знаю: ты позаботишься о доме, - тихо выдыхает Хель. Вместо прощания. На всякий случай. Не о лавке. О доме. И Корвус замирает, вскинув голову, глядя…
Хель уходит с тем же изяществом, которое так редко ему доступно. В том, с какой охотой подчиняется магия сейчас, есть горькая тень предательства. Ростовщик усмехается и падает на диван, сжимает пальцами трость. Вот он весь — в этом движении, в этом жесте. Страх скребется из-под кожи.
Хтоник думает о Вильяме. И чувствует… почти благодарность: за то, что ему дали то единственное, что ночью могло спасти. Покой. А прежде — тепло чужой жизни. Пальцы еще помнят хруст ткани под неровным движением. Тело помнит капкан чужих объятий. Колкость терновника в каждом вдохе.
В его голове стихи. Он помнит их так, словно они врезались с чернилами в кожу. И чувствует: если все закончится благополучно… он найдет их снова. Если понадобится, он заглянет в каждую из существующих книг. Он найдет эти строчки. Он наполнит свой мир другими, им подобными.
Когда дверь открывается вновь, чтобы впустить гостя, Хель не вздрагивает. Он почти уверен, что умер, лишь впервые коснувшись руки в красной перчатке. Так о чем тревожиться мертвецу?

В тесном номере пахнет прохладой. Высокое дерево бьётся о стёкла окон, рисуя на стенах узоры фантастических чудовищ. Ветер завывает грустную песню через сквозняки, и в ней — вся болезненность этого мира. Вильям чувствует, будто его переехал бронепоезд. Он скатывается по стене, оседая на полу как безвольная вещь. Как игрушка, у которой садятся батарейки, и она ломается, едва допевая свой изученно-весёлый мотив.
Глаза упираются в холодную поверхность деревянного пола. Руки тянутся к глазам, будто только в них утешение. Алые перчатки остаются брошены где-то около двери: они в свете пригашенных звёзд кажутся отрубленными кистями, измазанными в крови до самых запястий. Вильям чувствует приятную прохладу холодных рук к разгорячённым векам. С минуту кажется, что этот холод может унять разгорающийся в груди пожар. Как жалко.
Вильяма потряхивает от событий ночи. Живот болезненно вжимается в рёбра, вспоминая назойливое касание чужих рук через тонкую ткань рубашки. Вильяма никогда так прежде не касались люди: словно волнорезом по неспокойному океану. В этих движениях не было ни любви, ни нежности, ни гнева. В них были страх и просьба о помощи. Эти руки просили: «Пусти нас, дай согреться». Но касались брюшины так, будто это… было хотя бы теоретически возможно. И в то мгновение было жаль: что в твоей коже нет прорези для коротких ногтей.
Они царапнули глубже, чем целились.
И Вильям стягивает с себя одежду, освобождает ноги от тисков плотно-чёрных брюк, и откидывает их в сторону. Пар от горячего душа в ванной комнате дарит приятный ушам шум: он заглушает промозглые мысли, витающие назойливыми мухами в голове. Чёрные прямые волосы, намокая, оплетают силуэт лица с острым подбородком. Вильям садится в ванну. На мгновение ему даже становится легче.
Небольшое зеркало номера запотевает от царящего внутри помещения пара. Вильям тянется ещё сухой ладонью к шкафчику под раковиной и вынимает сигареты: привычка курить в ванной комнате кочует с ним из одного места в другое. Зажигалка с черепом даёт слабый огонёк. Вильям делает первую затяжку и откидывает голову назад. Дым смешивается с тяжёлым влажным воздухом. Уши почти не помнят предсмертных хрипов, звучавших в номере жрицы два часа назад. Он закрывает глаза: хочет не видеть чужое лицо, но не может.
Поверхность воды медленно смыкается над его макушкой. Там, в воде, совершенно невозможно дышать. Шальная мысль закрадывается в его голову.
«Ничего не изменилось».
Он выныривает на поверхность спустя три минуты, хватаясь за металлические поручни пальцами, судорожно глотая ртом воздух, как выброшенная на поверхность рыба. Недостаток кислорода больно обжигает лёгкие. Наверное, так чувствуешь себя каждый раз, когда находишься на грани жизни. Смерть. Вильям знает о неё слишком много.
И его голова касается прохладной поверхности ванны виском. На левой руке россыпь мелких шрамов от лезвий: они идут аккуратной белой лесенкой от сгиба локтя до запястья: где-то плотно сменяя друг друга, где-то оставляя «дыру» чистой кожи на несколько сантиметров. В них есть застывшая боль убиенных им людей. Пальцы любовного касаются длинного плотного шрама на самом верху предплечья. Вильям знает, как зовут этот шрам. В одну секунду в болезненных воспоминаниях Френсис звонко смеётся, откидывает белокурые локоны назад и берёт в руки зеркальную камеру, которая висит у неё на ремне через плечо:
— Улыбнись, Вильям, — ласково переливается её теплый голос. — Тебе так идёт улыбка.
Вильям делает вторую затяжку и топится ещё раз.
Этой ночью он спит неспокойно. Кошмары вырывают его посреди тьмы, заставляя оседать на кровати и дышать, будто заставляя убегать из лап свирепых монстров. Вильям пытается уснуть, он ворочается во сне, но покой приходит лишь под утро. Сон отпускает Вильяма из своих лап, когда на часах уже почти тринадцать.
Но он не спешит терять одиночество. Он всячески избегает случайной встречи: не проходит мимо чужого номера, не стучится в дверь. У него полчаса на утреннюю пробежку, час на боксирование в спортивном зале, и когда Архей уже сползает с зенита, Вильям понимает: бессмысленно убегать. Невозможно укрыться от разговора с Хелем, но от его сковывающих стен укрыться можно.
И тогда он к нему приходит. Без стука толкает входную дверь спиной и заносит в номер две чашки чая с печеньем. Широкие солнцезащитные очки не дадут увидеть чужих красных глаз. Два бокала розового вина лишь сомнительно дадут знать о себе отёчностью в лица.
— Привет! —щебечет Вильям, врываясь в комнату. — Ты весь день сидел в своём номере как мышь в норе? Пошли. Я арендовал кабриолет для прогулки.
И Вильям плюхается на кресло напротив дивана, подпирая рукой щёку. Он в показательно-приподнятом настроении. С тем же тоном, что ничуть не изменился со вчерашнего дня: он улыбается Хелю в лицо, зная: только один из них видит глаза другого.
Возможно, так легче будет «другого» распять.
Вильям знает. Вильям помнит: как на него могут смотреть глаза напротив. Какая в них бывает ненависть, какой в них может разжечься гнев. И после — с какой мольбой о чужое тело могут скрестись другие руки. Нет более лёгкой мишени, чем сердце, которое сомневается.
Вильям даёт себе возможность помочь. И сталкивает Хеля с обрыва.
Химия любви есть простая истина: в расширенных зрачках, в учащенном сердцебиении и сбитом дыхании. В желании обладать, в желании смотреть и касаться. Тонкая ложечка в чашке мерно помешивает золотисто-коричный цвет и растворяет сахар. Вильям ожидает, когда его яд поглубже просочиться в кожу жертвы.
Ему уже мало симпатии — это было. Ему недостаточно расположения — это не поможет. Вильям отдаёт себе отчёт, что он подвёл того, кто на него надеялся, что он застрелил на чужих глазах человека. Сильные эмоции выбиваются сильными эмоциями.
Прости, Хель. Ты в некотором роде тоже будешь прострелян в голову.
— Допивай свой чай, — тараторит Вильям, поспешно вставая с кресла. — Прокатимся по дороге, потом пешком до Крокса. Я знаю, где эта пещера. Сходим с тобой на разведку. 
В неярком свете Хель теряет чувство времени, и когда в номер входит Вильям, ростовщик вздрагивает. Он не удивлен, что напарнику не понадобилось разрешение: кажется, Блауз не спрашивает, прежде чем ворваться куда-то, будь то лавка, уют гостиничного номера или чужие мысли. Хель безуспешно пытается прогнать нового знакомого хотя бы из собственной головы… но не может: Вильям врезался в каждую мысль настойчивостью читаемых в темноте стихов. Пальцы, которыми ростовщик сжимает трость, все еще саднят, помня прикосновение чужого тепла.
Вильям приносит чай — и Хель тянется к чашке, не ожидая ни просьбы, ни приглашения. Аромат горьковатых трав заполняет комнату. Или хтонику просто так кажется. Пока чашка едва заметно дрожит, обжигая ладонь, хтоник смотрит на гостя и видит лишь свое отражение в широких солнцезащитных очках.
Ему становится неприятно. Хель помнит, как много сил потратил давным давно, чтобы изгнать из лавки мышей: они портили книги, грызли все, что не пряталось за стеклом. А Хель силился прикормить их сыром и увести подальше, по одной. Они долго возвращались, пока Корвус не взялся за дело сам. Одну, кажется, упустил — Хель чувствует, как она перебирает лапками внутри его грудной клетки.
- Свет режет глаза? - предполагает Хель, ничем не выдавая недовольства. Сейчас, когда он не видит глаз Блауза, самого себя вдруг чувствует слепым: эти глаза ему нравились, его завораживала их тьма и гамма чувств, выдающих искренность. Сейчас он видит только себя — и ему хочется отвернуться.
Дрожь пальцев становится рябью на поверхности горячего чая. Хель делает торопливый глоток и обжигает язык. Но кажется — он обжигается весь. Сейчас, сидя рядом с напарником, ростовщик вспоминает… каждое мгновение минувшей ночи. Вспоминает Вильяма в ресторане, и как розе лилось в улыбающийся рот. Как после парнишка прижимал к животу подушку и читал стихи. Так, словно ножом вырезал их на его, Хеля, коже. Глубже, чем сможет узор любой татуировки — бесследно, но все равно болезненно. Может ли чужой голос оставить шрамы?
А после… падение женского тела и боль в груди. Боль, толкающая за край, на котором он цеплялся за Блауза. Как самый последний из грешников, стремящийся избежать наказания. Пальцы помнят — и Хелю кажется, что под рубашкой у напарника должны были остаться тонкие полосы рвущих кожу ногтей. Взгляд постоянно мечется в сторону чужого тела, чье тепло Хель помнит и, что хуже всего… в какой-то мере почти тоскует по нему.
Страдание связывает, мысленно повторяет хтоник. Он уверен, что дело лишь в этом.
Он делает еще глоток, безропотно принимая болезненность ожога. Потом ставит чашку на стол и тянется к трости. Прикосновение гладкого металла под пальцами заставляет вспомнить о другом — как его щеки касалась обнаженная ладонь Блауза. В тот момент Хель ненавидел его почти так же сильно, как и себя. А сейчас приходится опускать взгляд, чтобы не встретиться с собственным лицом в отражении.
Вильям выглядит иначе. Усталость не скрыть за очками, но Хель замечает и другое: более свободную одежду. Как закатанные до локтей рукава рубашки обнажают кожу. Будто подчеркивая: нельзя касаться. Помнишь, нельзя? Но запретная зона почему-то притягивает, и Хель вонзается в нее взглядом, раз уж не может пальцами. Видит дорожку из тонких шрамов, тянущуюся по чужому запястью. И то, как Вильям держит ладонь, будто за много лет привыкнув скрывать эти следы.
Хель торопливо отводит взгляд. Он ничего не может поделать с собой: видит белесые линии шрамов и чувствует фантомную боль в собственном теле, словно отражение чужой. Видит смазанную плавность чужих движений — признак тщательно скрываемой усталости. Что он увидит, если Вильям снимет очки?
Хель спал хорошо. Ему кажется, что незаслуженно хорошо. Пока человек подле него… что? Лгал? Убивал снова? Сколько крови на чужих руках, так уязвимо обнаженных сейчас. Хочется потянуться к ним пальцами, впиться в кожу ногтями… странное болезненное желание — оно жжет в груди, как слишком горячий чай. Хель тянется к чашке, подтягивает ее к губам. Он не знает, что чувство, упорно разрастающееся сорняком, любовно посеяно чужаком. Но сорняк приживается. И не кажется посторонним.
- Я был в лавке, - тихо замечает Хель и чувствует, как губы растягиваются в улыбке. Вопреки всему… ему хочется поделиться этим визитом так, как человек делится с близкими своим сокровищем. Хель бросает быстрый взгляд в сторону Блауза, пытаясь угадать, что тот думает. Что чувствует. Ему хочется верить, что человек, передавший подарок Корвусу, действительно существовал, а не был лишь карнавальной маской. Если он существовал… Хель вдруг понимает, что тогда примирился бы и с убийцей.
- Корвус был очень рад. Он… передал тебе благодарность, - Хель не кривит душой, помнит, каким восторгом полнились реплики птицы. В опущенном взгляде хтоника таится надежда, что о друге кто-то позаботится, если самого Хеля не станет. Ему не нравится, что мысль о смерти постоянно возвращается в разум… как не нравится и надеяться, что возможный убийца может стать благодетелем.
Взгляд цепляется за дорожку чужих шрамов — снова. И Хель не может отвернуться. Пальцы дрожат, и хтоник протягивает их к напарнику… но в последний момент поспешно одергивает ладонь. Он не может. Потому что это больно и странно. И потому что он все еще чудовище. Их таких двое — слишком много для тесной комнаты.
- Что ты видел в ее голове? - спрашивает Хель, и голос срывается. Назвать имя хтоник не может. Но может снова взглянуть в лицо покойницы — теперь она всегда где-то здесь. В отражении собственного взгляда. В ряби, бегущей по поверхности ароматного напитка. Хель надеется, что Вильям не спросит, о ком говорит хтоник. Хотя и уверен, что заслужил эту пытку. Но все же… от капли милосердия он бы не отказался — даже если последнее принадлежит палачу.
Хелю не хочется уходить. Он понимает это, чем дольше смотрит на собственные пальцы поверх рукояти трости. Ему кажется, будто недруг пришел забрать его из камеры пыток, чтобы увести на казнь, а ведь он еще недостаточно пострадал на дыбе. Хель кривит улыбку, больше смахивающую на гримасу, и мучает себя воспоминанием о чужой смерти. Кажется, если думать о ней достаточно долго, можно перестать бояться собственной и начать ее желать.
Можно захотеть пойти за своим палачом — безропотно.
Целое предательское мгновение Хель думает, что готов подставить висок под пулю, если это будет значить покой. Забвение. Если Вильям наконец снимет проклятые очки, не позволяющие даже взглянуть на союзника. На недруга. На предателя. Палача. На того, к кому тянется ладонь — непроизвольно, мучительно ожидая прикосновения. Кажется, так мотыльки вьются над пламенем. Предчувствуют ли они гибель?
- Сними очки, - просит Хель и закрывает глаза, - пожалуйста.
Он думает, что просить не имеет права. Уверен в этом — особенно после того, как цеплялся за чужое тепло, будто желая вплавиться под самую кожу. Будто желая… но даже приговоренному позволяют одно желание, а Хель хочет всего лишь чужого взгляда. Искреннего, отчаянного. Такого, что смотришь — и кажется, будто черти терзают душу. Если у кого-то из них вообще есть душа.
За все в этой жизни придется платить с процентом,
Скоро и ты расплатишься, ростовщик.

Глаза наблюдают за Хелем из-за непроницаемых стёкол очков. Вильям внимателен как студент медицинского университета при препарировании тела лягушки. Не нужно видеть его глаза, чтобы чувствовать на коже испытующе-острый взгляд. Он как клинок, ковыряющийся в нежной плоти с целью достать «нечто интересное». Ни капли жалости, ни грамма сострадания. Ничего.
В этом есть что-то от праздного любопытства и издевательства. Вильям прикусывает нижнюю губу, склоняет голову набок, его губы тянутся в улыбке, усталой и спокойной. Ложка в ладонях застывает в чашке чая, размешав сахар уже пять минут назад. Время медленно тянется подобно мёду, растягиваясь между двумя собеседниками, которые смотрят друг другу в лицо. А один из них — изредка отводит глаза.
Вильям улыбается. В этой улыбке нет ни доброты, ни злобы. Зато есть глухое ликование победителя. Ментального мага, что взял жертву под контроль, и с упоением наблюдает за результатами своего труда. Как за фильмом, просмотр которого оплачен в частном кинотеатре. В своей больной фантазии Вильям торжествующе поставил Хеля на колени: он знает это, его контрольный выстрел попал аккурат в сердце. И как забавно наблюдать, что в результате сильнейшего внушения в его жертве не меняется ничего.
Это очаровательно.
— Ты как? Нормально себя чувствуешь?
Вопрос звучит как забота — на самом деле, он издёвка. В непроницаемых солнцезащитных очках Вильям чувствует себя хищником, способным наблюдать за жертвой из укрытия. И он наблюдает: как Хель тревожно отводит глаза, стремясь спрятаться за чашкой чая, как ему некуда убрать руки. Он лезет то на гладкую поверхность набалдашника трости, то ищет руками прохладную поверхность посуды. То ладонь беспомощной чашей почти касается его локтя — Вильям с упоением наблюдает, как его собеседника выдают руки.
Руки. Лицо ростовщика прохладно-отрешённое, в голосе ни капли нежной теплоты. Там, на границе радужной оболочки, зияют два расширенных зрачка. Будто случайная поломка организма. В душе Блауза торжественно смеются злобные твари: Вильям чувствует превосходство.
Хель бы мог ненавидеть его за вчерашний выстрел и за излишнюю откровенность, за свидетельство чужой слабости. Но он этого не делает. Лишь тревожно спрашивает про очки, но этот вопрос Вильям пропускает, не давая никакого ответа.
Улыбка, однако, становится шире, когда Хель говорит о Корвусе. После событий ночи тот переданный подарок стирается из памяти как забытое прошлое. Вильям выпрямляет голову и наклоняется вперёд:
— Твоей чудесной птице понравилось угощение? Я рад. Всё время боюсь не угодить кому-то. Но твоя птица всегда знает, чего хочет. Это мне в ней нравится. Попробуй иногда делать так же. Ты много молчишь. Всё держишь в себе. Зачем?
Вильям вскакивает с кресла. Тонкая ложка слабо позвякивает, будучи задетой локтем, и выпадает из чашки. Беспокойные ноги несут Вильяма обогнуть диван Хеля дважды по кругу, говорить какую-то невнятную ерунду, а потом сесть обратно. Вильям даёт непрошенный совет, суетится в пространстве небольших стен — будто проверяет на прочность, насколько Хеля хватит.
И его хватает. Лишь назойливый взгляд преследует полосованное левое предплечье как нечто лишённое рассудка и неувиденное раньше. И Вильям поднимает руку вверх, подставляя узор «лестниц» чужому взгляду:
— Это? Молодо-зелено, темперамент, подростковый максимализм. Молодой был, глупый. Не обращай внимания.
И его улыбка стирается в мгновение.
— Сними очки, — просит Хель и закрывает глаза, — пожалуйста.
— Что, прости?
Это как-то нелогично. Глупо. Странно. Вильям наклоняет голову вбок, как это делают собаки, когда рассматривают интересный субъект. Он чувствует, как в его пространство вторглись. Как некто попросил снять защиту и обнажить перед собой лицо. Всего лишь очки, всего лишь…
Вильям не хочет, чтобы его лицо видели. Он выдыхает. Выдыхает — и левая ладонь быстрым движением сдирает тёмные стёкла с переносицы.
— Теперь ты доволен? — с укором говорит он, смотря в чужое лицо с желанием пригвоздить к паркету. — Так лучше?
Его веки отёкшие, под глазами залегают глубокие тени. Белки болезненно-красного цвета. Вильям смотрит на Хеля таким взглядом, будто говорит без слов: «Спроси, только посмей спросить, что со мной. И тогда твой кривой нос станет ещё более кривым».
— О воспоминании. Тебе достаточно рассказать, или ты хочешь увидеть?
И Вильям наклоняется вперёд. Его глаза заливаются красками густых чёрных чернил, красные перчатки наливаются тёмным цветом. Он почти подносит свою руку к лицу Хеля, заранее зная ответ, как…
— Расскажи, — коротко отзывается Хель и отводит взгляд.
И этот ответ оказывается не тот. Вильям моргает — пелена глаз пропадает с них в ноль. Чернила впитываются в поверхность перчаток, как будто были придуманы нелепым сказочником. Хель верит ему на слово. Хель не хочет, чтобы он страдал, как каждый раз страдает от использования магической вязи.
Он по-своему о нём заботится.
— Спасибо, — благодарно выдаёт Вильям и садится обратно. — Может, всё же на улицу? Под рёв мотора, по серпантину и музыку радио? Это не то, что приятно слышать.
И он откидывается в спинку кресла, вонзая взгляд в потолок. Есть нечто, что они оба должны знать. Это куда важнее, чем поиск нужного входа в пещеры:
— Культистов о нас предупредили.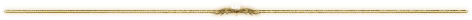
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-04 08:18:05)
[html]<iframe frameborder="0" style="border:none;width:100%;height:80px;" width="100%" height="80" src="https://music.yandex.ru/iframe/#track/25167094/2961148">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2961148/track/25167094'>Animal</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3149003'>Chase Holfelder</a> на Яндекс Музыке</iframe>[/html]
Хель помнит, какими могут быть движения Блауза, какой может быть улыбка. И сейчас — не верит. Чувствует, будто всей своей коже, наигранность чужих жестов. В них сейчас, несмотря на бьющую через край энергию, до странности мало жизни. А потому желание увидеть чужой взгляд, впиться в пылающую в нем искренность, становится нестерпимым.
Но хуже всего — страшное, под ребра ввинчивающееся желание касаться.
Хель вновь скользит взглядом по чужим обнаженным запястьям, будто специально выставленным. Ростовщик почти не слышит Блауза — голос может лгать, но дело даже не во лжи… в том, что слова сливаются в шум, почти ничего не значащий. То, что имеет значение, Хель понимает и так, а потому снова и снова отворачивается, когда в порыве встретиться с чужими глазами впивается в собственное отражение. Свое лицо, отраженное не сетью узких осколков, кажется неправильным и цельным.
Чашка дрожит в неуверенных пальцах. Взгляд вновь возвращается к дорожке чужих шрамов. Они бледные, чуть выпуклые, похожие на засечки дат в ежедневнике. Взгляд упорно цепляется за верхнюю линию. Хель думает о том, сколько шрамов могло бы сохраниться на его собственной коже, но на ней — лишь изменчивые чернила. Они не хранят ничьих прикосновений, тогда как в лестнице шрамов Блауза мерещится боль. Хель почти завидует, ведь его тело не способно на подобную память.
Он не верит небрежно брошенным словам о подростковом максимализме. И убеждается в своей правоте, когда Блауз снимает очки. Сердце предательски сбивается, и Хель замирает, завороженный чужим взглядом. Он может лишь гадать, знает ли Вильям о том, как тяжело оторваться от его глаз. Темные омуты притягивают, и Хель тонет в них так, как прежде мог только в собственной боли.
Губы дрожат, желая скривиться в улыбке, но Хель не понимает, почему ему так хочется улыбнуться, если в глазах напротив — ярость обнаженной души. Кажется, еще чуть-чуть, и Вильям бросится с кулаками. Хелю совсем не страшно. Он почти готов подставить улыбающееся лицо под удар — так же, как вчера Вильям подставлял плечо под чужую боль. Во взгляде Блауза — тысячи смертей и бездна чужих кошмаров. Наверняка и собственных там хватает.
Чужое лицо оказывается слишком близко — Хель понимает это в какой-то миг, уже видит чернила, заливающие протянутую ладонь… он вспоминает, как эта ладонь дрожала, сжимая стекло заполненного водой бокала. И думает, что не хочет заставлять напарника снова проходить через это. А потому старательно отворачивается, пряча собственную слабость. Кажется, трещина ложится по самому сердцу — невидимая глазом, но болезненнее любых, расчерчивающих тело.
— Спасибо, - выдыхает Вильям, и Хель слышит в голосе облегчение. Он позволяет себе обернуться, посмотреть, как Блауз падает обратно в кресло, запрокидывая голову. Все свое тело подставляя чужому взгляду. Хтоник может только завидовать легкости чужих движений, не покоренных даже усталостью. Сам он может лишь цепляться за трость или за опустевшую чашку - и смотреть. Обожженные губы кривятся в подобии улыбки.
Но улыбка стирается от следующих слов.
— Культистов о нас предупредили.
Хель замирает, впиваясь взглядом в чужие руки, но вместо узора шрамов он видит лишь заливающую полы кровь. Слышит звук падающего тела. Пожалуйста, - слышит он шепот Женевы, хотя она никогда не произносила этих слов.
Руки дрожат, и чашка выскальзывает из пальцев. Хель слепо загребает ладонью — но пальцы ловят лишь пустоту. Хтоник думает о том, что на самом деле значат слова напарника: еще больше мертвых тел. Либо всего два — Вильяма и самого ростовщика. Он почти уверен, что смог бы разменять своей жизнью любую другую, но речь не только об этом. Он вспоминает живое существо, запертое в клетке. Вспоминает тьму склепа, ставшего вечной клеткой для него самого…
Он сам не понимает, как пальцы цепляются за чужую руку. Прикосновение обжигает хуже, чем чай. Взгляд цепляется за расколотую чашку на полу. Не разбилась — но все равно пострадала. По выпуклому боку протягивается уродливая трещина, от края откололся кусочек. Хелю кажется, что нечто подобное творится с его сердцем в самом буквальном смысле — кажется, с каждым ударом излом становится глубже.
Он делает вдох — и боль растекается под кожей, но не дает ни единой трещины. Хель поворачивается к напарнику, но не может разжать ладонь — пальцы лежат поверх чужого запястья, поверх лестницы шрамов. Хочется провести по ним ладонью, как по тисненой обложке книги. Кажется, если так сделать, то в каждой из бледных линий получится что-то прочесть. Руку жжет, и пальцы снова дрожат.
Хелю нужна, кажется, целая вечность, чтобы заставить себя отстраниться. Он разжимает саднящие пальцы и откидывается на спинку дивана. Закрывает глаза.
- Прости, - выдыхает он. На этот раз он знает, за что извиняется.
Но не знает, почему не смог себя сдержать. Не знает, почему привычная боль ожога кажется такой притягательной. Внутренний голос издевательски похож на Корвуса: с каких пор ты сделался мазохистом?
- Что мы будем делать теперь? - спрашивает Хель, будто прося забыть о несдержанности. Но сам все еще чувствует чужое тепло на кончиках пальцев. И снова вспоминает — плотно прижатое к его собственному тело. Снова и снова, и воспоминание кажется проклятием, как и тоска, от которой во рту горько.
Даже лицо Женевы не может прогнать эту назойливую страшную мысль. Это желание прикоснуться. Хель цепляется за трость так, словно мечтает сделать ее частью своих рук. Пальцы все еще дрожат, дыхание сбивается. Он чувствует себя глупцом. Или безумцем. Тяжело не думать, но у него получается — как только взгляд вновь впивается в чужое лицо, уже не скрытое за очками.
Отредактировано Хель (2022-07-05 20:40:42)

Как смотрит Боттичелли на свои творения? Как композитор слышит музыку, извлечённую из собственной нотной тетради нерадивой рукой любимого ученика? Как смотрит режиссёр — на месяцы смакуемую постановку, наблюдая за артистами из ложи зала? Аплодируя им. Крича.
Как приятно получать то, что ты не ожидаешь.
Вильям ловит каждый жест, следит за чужими глазами и руками, вгрызается взглядом в выражение лица напротив — хотя снаружи кажется совершенно безучастным. Его хищная порода будто пытается увидеть всё. Всё — без остатка. Наблюдать за тем, что не может видеть ни в ком другом. Что непредсказуемо и неправильно по своей сути.
Вильям видит клетку. Человека, что привык ковать себя железными цепями. Как растаявший айсберг, что остаётся холодным, какие бы неведомые силы не прикладывали к его естеству. Пусть верхушка айсберга подтаяла под палящими лучами чужого солнца, льдина по-прежнему остаётся льдиной. Недвижимым конгломератом чужой боли и оков снега. Она не привыкла быть тёплой. Даже к самой себе.
Это восхищает.
— Сними очки, пожалуйста.
Вильям держит дешёвые стёкла в ладонях. В его лице — гнев и нетерпимость. Как посмел некто просить его о чём-то подобном? Чем Хелю помешала очередная «маска», такая простая и незатейливая, придуманная людьми, что лжи в ней не больше, чем в его словах? Почему Вильям не нашёл слов сказать «я выгляжу неважно», «я перепил вчера», «чувак, я вожу машину, в том раритетном кабриолете нет козырька, ты хочешь, чтобы я ослеп?» Но Вильям снимает очки, даже не задумавшись спросить хоть что-то. В голову приходит мысль, что манипулировать им проще простого. Даже без оков ментальной магии: для некоторых хочется просто сделать то, что они просят. Неважно, сколько у тебя на языке в этот момент крутится «но».
И напротив возникает улыбка. В первую секунду она возмущает, заставляя кровь прилить к щекам: в груди поднимается клокотание, готовое вот-вот излиться на пару ласковых слов. Трещат дужки очков, сминаемые гневной ладонью. «Дай мне повод, дай мне возможность…» Хель отводит глаза. Он похож на девушку, смущенную подаренной ей ромашкой. Пожар в груди Вильяма утихает. Рука уже не стремиться раскрасить чужие губы огоньком яркого синяка. Жалко.
Вильяму становится смешно. И концерт продолжается.
Он видит, как пошатнувшееся спокойствие Хеля вываливается из рук вместе с белой незатейливой чашкой. Она, по законам вселенной, должна была разбиться вдребезги, но остаётся целой. Или почти: её плавное ребро у ручки украшает глубокая трещина, на краю селится свежая, ещё острая щербинка. Вильям тянется наклониться — и его руку перекрывает чужая ладонь.
Он вздрагивает. Не то от испуга, не от внезапности. Кожу будто прошибает током, и Вильям подтягивает пальцы к собственной ладони, будто пытается высвободиться из тисков. Как уж или гадюка: изгибает свой хвост, сворачивается кольцом, будучи схваченным рогатой палкой под голову и прижатым к земле. Хель умудряется быть нелогичным, неправильным, не… Ко кучи остальных «не». Есть в этом движении что-то от потуги куклы совершить нечто против своего кукловода. Взгляд Вильяма замирает взглядом на чужих пальцах. Он пробует это касание на вкус.
Руки Хеля тёплые: в отличие от собственных, что ещё не успели согреться горячим напитком с травами. Против первой реакции не хочется высвобождаться, не хочет скидывать их, а наблюдать. Вильям чувствует себя пойманным вором: именно так перехватывают запястье, когда ловят на чём-то постыдном. Но что Вильям украл? Ответ приходит вместе с вопросом. И из груди вырывается смех.
— Какой же ты…— Вильям дависят своими словами, не сумев удержаться от улыбки.
Иные смеются как звон колокольчика. Элегантно прикрывая рот кончиками пальцев, чуть опуская подбородок. Блауз же смеётся громко, и его трясёт подобно потугам беременной чайки — и голос примерно тот же. Он поджимает ноги к туловищу, его плечи болезненно трясутся, а на в углах глаз выступают слёзы. «Всё, это всё!» — подумать только. Исход сильнейшей любовной магии, в которую творец вложил всё душу, — неосторожное и грубое касание руки.
— Какой же ты нелепый, — смеётся Вильям. — Какой очаровательный. Правда, Хель. Я покорён. До глубины души.
И Вильям садится — сползает на пол — взяв в руки тонкую слабую керамику. Он любовно крутит её в ладонях, наблюдая за тем, как трещина проходит по чашке насквозь и зиждется во внутренней поверхности. Из этой посуды уже нельзя пить.
— Смотри, Хель, смотри. Трещина. Так похоже на тебя, ведь правда?
Хищник подбирается к жертве ближе. Вильяму смешно, забавно. Он отпускает путы магии, зная: какое-то время Хель сам будет поддерживать это состояние внутри себя «по инерции». И всё же ему интересно: что изменится? Изменится ли что-то? Во взгляде, в движениях, в реакции? Руки Вильяма ложатся на чужие колени — проверяют границы дозволенного. Он подтягивается вперёд, становясь к Хелю почти лицом к лицу и опираясь...на него же самого.
— Скажи, дурачок, — вкрадчиво говорит Вильям, впритык вонзаясь в чужие глаза. — Зачем ты это сделал?
Сломанные очки бесполезным хламом поблёскивают позади. Возможно, это было бы единственное, что спасло бы Хеля.
Но сейчас уже поздно.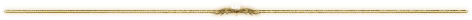
Эта клетка открыта с обеих сторон,
Только мы никуда из нее не уйдем.
Эта камера пыток — наш будущий дом.

Под кожей разрастаются трещины — в них болезненности больше, чем в любой, что может пересечь узор чернил на коже. Хель чувствует, как сбивается дыхание, как ломается что-то важное внутри него. Глаза напротив — вот настоящая клетка, хуже любой, в какую хтоник может заковать себя сам.
Он пытается отстраниться, уйти от прикосновений, которыми Вильям удерживает его колено, затем — от слов, впивающихся в разум, как клинки. Но может лишь сжаться спиной в спинку дивана, пытаясь сдержать бешено бьющееся сердце. Целое мгновение Хель не может понять, чем заслужил такую жестокость со стороны напарника, а издевка в чужих словах слышна так явно, что ее тяжело не заметить. Какой же ты нелепый, - повторяет эхо в черепе ростовщика. Нелепый. Очаровательный.
Ему хочется отвернуться, скрыть обиду за ресницами. Он чувствует в самом себе чужака, которому рад едва ли больше, чем ломающему прутья клетки чудовищу. Даже через плотную ткань — он чувствует ожог чужих пальцев. Цепких почти так же, как его собственные, но более уверенных. Зачем ты это делаешь? - хочет спросить Хель. Что ты делаешь? - вопрошает затем. Это игра, догадывается он, и сердце прорастает еще одним сколом — совсем как на хрупкой поверхности испорченной чашки. У них с этой чашкой много общего — и то, и то вскоре отправится в утиль.
— Скажи, дурачок, зачем ты это сделал?
У Хеля пересыхает во рту. Существо напротив не кажется ему человеком, монстром, ожившим кошмаром. Видением. Недостижимой мечтой, готовой не растаять, но разлететься вдребезги и осколками изрезать заботливо подставленные ладони. Отпусти меня, - просит Хель мысленно. Пальцы невольно тянутся к чужим плечам — оттолкнуть. Задержать. Выиграть время. Хель чувствует: это ловушка. Но разум проигрывает, даже лишенный оков чужой магии. Сердце заходится снова, и Хель чувствует сжимающуюся под ребрами слабость. Он почти уверен, что стоит двинуться — и трещины выступят уже на кожу. Он хочет двинуться.
Пальцы все же цепляются за чужое плечо — настойчиво удерживая на месте. Не давая приблизиться. Не давая отстраниться. Хтоник задыхается, и шум собственной крови мешает ему услышать хоть что-то еще. Чужие глаза слишком близко, воспаленные после тяжелой ночи, с красными линиями лопнувших капилляров, похожих на такую же сетку трещин. Темные глаза, навевающие мысль о бездонных тоннелях — Хелю кажется, что он блуждает в них уже целую вечность, хотя на деле проходит едва ли больше нескольких секунд.
Отпусти меня, - мысленно повторяет Хель, но произнести вслух не может. Он не впервые видит лицо Блауза так близко, но лишь сейчас, кажется, осознает каждую болезненную деталь: жестокость, застывшую в улыбке. Пятно родинки, подпрыгивающей, когда Вильям говорит или смеется. Запах чужой кожи, тепло живого существа так близко. Хель не знает, что именно не дает ему шевельнуться: воспоминание о постыдном объятии или жажда окунуться в новое. Пальцы уже горят от прикосновения, все тело сжимается… он не может, знает, что не может.
- Я не знаю, - выдыхает Хель.
Он уверен, что это правда: он не помнит, почему пальцы сжались на чужом запястье. Почему даже сейчас, несмотря на всю болезненность касаний, не хочется отвести ладонь. Ментальный маг, - вспоминает он, не моргая. Глаза режет от слишком длительного контакта. Ментальный маг. Что ты сделал? Как давно ты это делаешь? Зачем? Или пустить пулю в висок для тебя недостаточно? Сперва хочешь отыграться на сердце?
- Потому что хотел, - выдыхает Хель с опозданием.
И это тоже правда. Он все еще хочет касаться. Болезненно, мучительно, до ломоты под ребрами цепляться за чужое тело. Пусть будет больно — самая его суть желает новой боли расплатой за чью-то смерть. Ростовщик целое мгновение верит: он все это заслужил. Каждый укол ядовитых слов. Каждый ожог на коже, не поддающейся шрамам. Заслужил каждый рубец на бьющемся сердце.
Пальцы напрягаются, Хель ненавидит себя так же сильно, как нелогичность выкручивающего изнутри желания. Чужое лицо так близко. Жестокость завораживающих глаз. Излом издевательской улыбки.
Он срывается — так, как можно сорваться с моста, с крыши небоскреба. Пальцы сгребают ткань чужой рубашки, удерживая на месте — недолго, лишь долю секунды, когда ростовщик подается вперед и накрывает чужие губы. Не поцелуем, одним касанием — неуклюжим, больным, как прикосновение к лихорадочно горящему лбу. Касание обжигает, ядом просачивается под кожу. Хель замирает, чувствуя лишь неожиданную мягкость чужих губ, едва задевая их дыханием. Он не умеет целовать — и знает это. Он и касаться-то не умеет.
И быстро отстраняется, закрывая глаза. Готовясь к любым последствиям — к новой порции ядовитых слов. Даже к удару. Он даже хочет, чтобы боль расколола висок. Он готовится зажимать ладонью разбитый нос. Смывать кровь с рассеченных губ. Он не просто готов к этому — он этого жаждет. Почти так же, как еще одного касания. Неправильного, больного.
Пьяного.
И хуже всего, понимает Хель, как только перестает видеть чужие сводящие с ума глаза, он опьянел еще ночью. Когда в душу просачивались строчки чужих стихов, когда темнота липла к коже. И когда чужое тело подставлялось под жаждущие ладони, а дыхание срывалось в изгибе чужого плеча. Хель знает, что так опьянеть нельзя ни от одного напитка. Он чувствует: такую больную зависимость порождает лишь человек.
Многое сотрется из памяти — но хтоник знает, что некоторые мгновения будет помнить всегда. Смерть у своих ног, жар касаний, ставший вдруг столь желанным. И это нелепое, даже глупое прикосновение к чужим губам — такое мимолетное, что забыть о нем проще простого. После оно смажется, исчезнет и покажется просто сном. Ростовщик убедит себя в том, что его и не было никогда.
Этого не было никогда.
Страдание связывает, думает Хель, и эта мысль тянется в ожидании удара. Боль связывает.
А о любви ростовщик не знает ничего.


Вильям всегда проверяет, насколько далеко он может зайти в отношении другого. Как простираются границы чужой воли, насколько далеко он может зайти. Плетённые браслетами ладони ложатся ему на плечи. Он отклоняется назад — не пускают. Подаётся вперёд — удерживают. Тиски. Оковы.
Клетка.
И Вильям расслабляет плечи, чтобы руки на них расслабились в ответ. Это всегда работает, чтобы обмануть: беспечность порождает невнимательность, ложно ослабленное сопротивление снижает прилагаемый напор. И Вильям чуть оседает вниз, пытаясь казаться спокойным. «Смотри, я не опасен, я не нападаю,» — говорит податливая чужому контролю поза.
Руки на плечах ему не верят.
Хель не верит Вильяму тоже.
Между ними тянется тишина. Не тонкими незримыми нитями, а канатами, которыми можно потянуть за каждого из них. И в этой неловком пространстве Вильям чувствует прилив сил и удовольствие. Извращённое чувство распирает сердце каждый раз, когда разум пытается рассуждать: что дальше? что происходит? куда летит этот поезд?
Никуда. Смотришь на Хеля, и кажется, что в конечном счёте он дойдёт до грани: поймёт издёвку, услышит в голосе насмешку, прочитает по глазам, по жестам — по чему угодно! — с ним просто играют. Как кошка с мышкой, и хищник иногда выпускает мышь из когтей, чтобы утолить свою жажду преследования, затем ловит. Так Вильям: то проявляет беззаветную доброту, то пытается опрокинуть на дыбу с остервенением инквизитора. И в этом особенное очарование натуры: повернётся ли к тебе безжалостный палач или сядет на колени тот, кто поддержит при падении в пропасть, — не узнаешь, пока не попробуешь.
Узнать. Попробовать. Попытаться.
Чужое лицо словно падает в омут или тебя утягивает за него. Вильям по инерции отклоняется назад, ожидая удара. В лоб или в нос, но получает совсем иное. Странное ощущение саднит на губах, но за ним ничего не следует. Пустота. Ощущение влажного мокрого воздуха над линией Купидона. Опасливое движение напарника в сторону, от него. Как можно дальше.
Вильям будто боятся. Глаза находят фигуру Хеля в опасной близости к истерике: у него закрыты глаза, а тело вжато в поверхность дивана. Костяшки на руках напряжены до предела.
Он его поцеловал. Он напугался.
Самого себя?
Вильяма?
Перемен?
Ладони тянутся к собственному лицу, к губам, чтобы их потрогать: пальцы чувствуют всё тот же контур, всё те сети мелких трещин. Вильям убеждает себя тактильно: ничего не меняется. Но в душе обрывается что-то, чего он не может понять.
И после понимает: жалость. Победителя к побеждённому. Он настолько увлёкся, что заигрался. Под ложечкой неприятно засосало: так давала о себе знать проснувшаяся совесть.
И Вильям заставляет поднять себя на ноги, сделать шаг вперёд. От него до Хеля меньше одного метра. Он видит, как хмурится чужое резкое лицо напротив, когда на него падает тень. Словно ждёт.
Ожидает удара.
— Придурок, — смеётся Вилл.
Красная перчатка падает на пол, раздавленная кроссовкой.
— Полный дурак, — и падает вторая.
Холодные пальцы прикасаются к горячей обожжённой коже. Вильям наклоняется вперёд: его колено опирается на край дивана между чужих бёдер, а пальцы сгребают к себе лицо. От волос Хеля пахнет пеплом, пылью и мрачной лавкой, из которой они вышли. А ещё — едва уловимо книгами. Старым пергаментом, на котором хранятся древние фолианты. Прошло всего несколько часов — а кажется: уже целая вечность. Вильям прижимает к себе его голову, утыкаясь носом в макушку: шея в области ключиц чувствует приятное касание чужого длинного носа.
«Как с тобой было просто», — отзывается в душе глубинный монстр, любящий поедать сердца на ужин.
Вильям смотрит в эту бездну и может ответить.
С ним было просто тоже.
Пальцы левой руки находят гладкость чужого подбородка, линию нижней челюсти: так ласкают любимых животных, когда хотят похвалить. Обожжёт ли тесное касание одного из них или обожжёт сразу обоих — неважно. Минуты не превращаются в часы.
Их безобразнейшим образом прерывают.
Дверь номера отворяется со скрипом. Вильям вздрагивает, но не разжимает тиски. В номер хотели постучаться, но дверь была открыта: первый гость не захлопнул её, как только проник в номер с чаем и печеньем. Теперь на пороге стоял второй: мужчина низкого роста и плотного телосложения, с животом, больше похожим на наполненную пивную бочку. Он был усатым, краснощёким. Одежда плотно облепляла влажное от пота тело, а руки исходили веретеницей вздутых вен. Жандарм.
Увидев позу, в которой он застал нужного человека, второй гость заметно потупился и опустил глаза. Вильям наклонился назад и восстановил адекватную дистанцию.
— Офицер Фигаро Ларсен. Тут, по соседству убита девушка…
— Вы меня отвлекли, — обиженно-раздраженно обрывает его Вильям, скрещивая на груди руки. — Я уже вчера ночью давал показания по этому делу и повторюсь: мы были вчера в ресторане. У нас были свидетели, потом мы едва вернулись — услышали пальбу. Мой друг всё время был со мной, он не мог…
— Блауз. Заткитесь, наконец, —раздражённо выдыхает Фигаро, зайдя внутрь номера без разрешения. — Я слышал ваши показания. И пришёл опросить второго. По протоколу. Так положено.
Вильям обреченно выдыхает, закатив глаза. Он поднимает руки вверх в жесте «Я сдаюсь» и направляется к выходу. Ни прощаний, ни слов. Ничего, кроме демонстративно поднятых вверх ключей от автомобиля, которые могут сказать Хелю:
— Смотри, я звал. Я приглашал. Ты сам отказался.
И длинные два часа ростовщика мучают допросами. Солнце садится за горизонт, в номер приносят полдник и ужин. Вильям не возвращается. Не даёт о себе знать, не врывается в номер подобием яркой вспышки. За окном воцаряется ночь: такая же, что сулила сутки назад Хелю беду. Но никто не тревожит его покой.
Пока не наступает полночь. Эти вспышки света обжигают глаза: ударившие в окна потоки яркой магии могут разбудить спящего или ослепить зрячего — если смотреть на них достаточно долго. Некто за окнами точно знает, где живёт Хель. Где находится его номер, где располагается окно. И точно знает время, когда он один.
Хрупкая фигура мальчишки в капюшоне: на вид ему не больше восемнадцати лет. Его сухая костлявая ладонь испускает магический свет: простая магия, работающая как маяк. Он следит за окном и за тем, когда к нему подойдут. Чтобы жестом сказать: «Иди сюда».
Хель ждет подкрадывающейся боли со смирением, с готовностью: он чувствует тень на своем лице и лишь слегка хмурит брови. Не собираясь защищаться, подставляясь под жестокость чужих пальцев так же, как ему самому подставляли объятия. И боль приходит — но не та, которой он ждал.
- Придурок, - смеется чужой голос совсем близко, и за смехом не слышно шороха покидающих руки перчаток. - Полный дурак.
Руки Вильяма холодные, почти ледяные — особенно на согревшейся коже. Согревшейся от чая или стыда. Хель не знает, но невольно подается вперед, увлекаемый чужой ладонью. И теряется в прикосновении. Ожоги расцветают под чужими пальцами — невидимые, незаметные. Трещины растут под кожей, как терновник, оплетающий заколдованную крепость. В своих волосах ростовщик чувствует тяжесть дыхания, а сам спустя мгновение касается носом бледных ключиц. Колкость чужих движений тянется по лицу, по подбородку и линии нижней челюсти.
Хель вспоминает, как чужая ладонь ласкала изящный череп в лавке. Тем же мягким и почти ласковым движением вела по линии нижней челюсти. Но череп не мог с тихим выдохом подставиться под болезненное касание — а хтоник может. И сдается, признавая поражение и сейчас, и на все будущие встречи.
Со смирением мученика он тонет в движениях чужих рук. Обнаженных, холодных. Рук палача, сейчас обманчиво нежных. Хель уже не сомневается: все это игра, все это ловушка, в которую он угодил с пугающей охотой. Чудовище, скованное прутьями ребер и удавкой на шее, с довольным ворчанием толкает тюремщика к чужому телу. Собственное же подводит хуже, чем во время любого из приступов: руки хтоника тянутся вверх, одна касается спины Блауза, неуверенным смазанным касанием, преддверием несвершившегося объятия. Другая — накрывает ладонь, ласкающую подбородок ростовщика.
Хель задыхается и чувствует себя глупцом из сказок, идущим на сделку с темными силами. Его демон пробирается под кожу с осторожностью мягких касаний. Вгрызается ядом обидных слов. Дурак, - вторит эхо в голове ростовщика, крепнет с каждым ударом сердца. Рваным ударом, сбитым с ритма. Выдох теряется в изгибе чужой шеи.
Если не открывать глаза, потом это покажется сном. И не только это — воображение нарисует больше, нарисует движение, обжигающие касанием плечо. Жар чужого дыхания на шее, на подбородке. Вкус губ, едва задетых прикосновением. Хель знает — и поддается. Смиряется. Он вспоминает, с какой нежностью руки Вильяма касались девичьего тела — чтобы после пустить пулю в висок.
Хель хмурится и вжимается лицом в шею возможного палача. На целый мучительный и прекрасный миг ему кажется, что весь мир сжался до одного человека и этих прикосновений. И становится почти все равно, что человек — чудовище. Что он сам — такое же. Монстр под ребрами благодарно ворчит и жаждет прильнуть к чужому теплу.
И… скрип двери доносится словно издалека. Хель открывает глаза, будто выныривая на поверхность из-под толщи воды. Знакомый мягкий свет комнаты вокруг кажется слишком ярким и режущим взгляд. Незнакомец смотрит со смятением. Чужие руки исчезают, забирая с собой и боль, и постыдное наслаждение. Оставляя лишь горящий след своего отсутствия. Хель чувствует, как покалывает кожа там, где ее касались обнаженные пальцы.
— Офицер Фигаро Ларсен. Тут, по соседству убита девушка…
— Вы меня отвлекли. Я уже вчера ночью давал показания по этому делу и повторюсь: мы были вчера в ресторане. У нас были свидетели, потом мы едва вернулись — услышали пальбу. Мой друг всё время был со мной, он не мог…
Ростовщик переводит взгляд с офицера на Вильяма. Напарник кажется раздраженным, скрещивает руки на груди… целое обманчивое мгновение хтоник уверен хотя бы в искренности недавней ласки. А потом вспоминает, что его знакомый — умелый мучитель. И торопливо отводит взгляд. Он не смотрит, как Вильям уходит, но в звоне ключей в чужих руках слышится упрек. Хель не двигается и не поднимает взгляда, пока шаги не затихают.
Он почти не замечает, как тянется время под обстрелом вопросов. Взгляд слепо блуждает по раскрасневшемуся лицу офицера, по форме, по рукам, шустро записывающим показания. Стоит встретиться взглядом — и офицер отворачивается первым, будто признавая неловкость своего появления. Будто извиняясь за это несвоевременное вторжение.
Но что он может понимать? Хель отвечает коротко и односложно, ему почти нечего рассказать: он помнит минувший ужин, после которого все как в тумане. Поднялся в номер и спал. Всю ночь, как убитый. Пальцы не выдают, крепко сжимая трость. Хель верит во все, что говорит — он не лжет, просто умалчивает. Он вспоминает стихи… и чуть улыбается после вопроса, что молодые люди делали в номере после. Офицер больше не задает этот вопрос, но заново проходится по всем остальным. Звук пальбы? Хель пожимает плечами. О том, слышал ли он шорох упавшего тела, пришелец не спрашивает. Где был ваш друг? Все время они были вместе. Как минимум, пока ростовщик не заснул. И офицер кивает. Что еще ему остается?
Хель мысленно далеко — и за эту беспечность ему почти стыдно. Воображение рисует Вильяма в залитой солнцем машине. С раскрасневшимися прищуренными глазами. С лесенкой белых шрамов на запястье. Этот образ не тает, даже когда офицер прощается и уходит, прикрывая за собой дверь, а Хель горбится над столом, сжимая трость из всех доступных ему сил. Страшно, больно, стыдно. Но он не может избавиться от мыслей, снова и снова возвращающихся к чужим рукам. Есть злобная ирония в том, как хочется прильнуть к руке, от которой при первом касании торопливо одернул ладонь.

Ростовщик дремлет — недолго, уверенный, что напарник разбудит, если потребуется помощь. Но будит его вспышка света, ударяющая в окно. Она вырывает не из сна, а из обрывков мучительных видений, полных чужим запахом и теплом. Хель вздрагивает и моргает несколько раз, вглядываясь в источник света, запоздало понимая, что дело в магии.
Незнакомец издали кажется подростком, хрупким и угловатым. Ростовщик замирает у окна, не понимая, чего от него хотят. До последнего уверенный, что все это какая-то ошибка. Но понимает: его зовут. Зачем?
Тревога спицей вонзается под ребро: Хель не знает, что делать. Он так привык, что напарник всюду направляет его, почти что тащит за собой… что теперь чувствует досаду. Кажется, он почти не представляет, что делать, оставшись наедине с собой. И спустя несколько долгих мгновений принимает необдуманное решение, о котором, вероятно, обязательно пожалеет.
Хель разворачивается и, стиснув трость в пальцах, быстро покидает номер, преодолевает лестницу и опустевший прохладный холл — и выходит в ночь. К ожидающему его незнакомцу и пыльному, душному даже в темноте, городу.


«Я здесь!» — незримо восклицает Вильям, врываясь в лавку редкостей. Хель помнит это лучше остальных: дверь, почти слетевшую с петель, тревожный перезвон колокольчиков под потолком и быстрые торопливые шаги по паркету. Хаос, следующий за гостем по пятам: вместе с порывом прохладного ветра и громким хлопком закрытого засова. Тогда всё начиналось. С выбора.
«Я здесь», — тихо шепчет Вильям, притаившись в мелочах. В оставленной на столике чашке недопитого чая. В тонкой металлической ложке, откатившейся от блюдца к краю. Сломанных солнцезащитных очках с оторванной дужкой на полу, в забытых красных перчатках под ножками диванчика, где-то у Хеля под ногами. Но вещи оставлены, а вместе с ними оставлен их владелец. С третьим приятным сном после летней прогулки — в соседнем номере отеля. Вильям ничего не знает о ночном госте. Его не ждут.
Астра встречает Хеля душным спёртым воздухом и пересветом множества звёзд. Шумными дорогами ночных байкеров, гудением мотоциклов. Даже глубокой ночью здесь не бывает тьмы: небо сгущает синеву, нагоняет густые облака, однако небу далеко до чёрного цвета. Отголоском разума кажется, что закат ещё не наступил. Тонкая фигура в капюшоне приветственно машет Хелю впереди рукой и переступает с ноги на ногу.
Её окружает ореол таинственных огней: они разбросаны по ночной улице в виде веретеницы зажжённых фонариков. Движением руки маг гасит их: и глазам приходится привыкать к темноте. Только так таинственного визитёра можно было увидеть из номера отеля. Его серая куртка и землистый цвет лица растворяют его в окружающей обстановке: он полная противоположность Хеля.
А ещё — он едва вышедший из гнезда птенец.
— Привет.
Он улыбается открыто и в чём-то даже восхищённо. Привести Хеля — его первое задание. И мальчишка смотрит ему за спину, убеждаясь, что он пришёл один. А затем облегчённо выдыхает: и можно увидеть жемчуг крупных резцов и красноту под щеками — не от смущения. От напряжения. И от радости, что всё вышло.
— Пойдём.
Он не объясняет Хелю ничего. Держит руки в карманах и оборачивает в сторону мелких двухэтажных построек. Знает, что Хель пойдёт следом. Не зря же он спустился на этаж. Не зря — не разбудил никого вокруг.
— Ты искатель редкостей, да? — оборачивается на него мальчишка. — Зови меня Люк. И не бойся. Я из "этих".
И Люк скидывает капюшон и поднимает отросшие тёмно-русые волосы вверх: на его шее, ниже линии роста волос зияет один единственный символ — цифра греческого алфавита. Сигма.
Это читается в его горделивым жесте: он безумно счастлив быть частью одной большой и дружной семьи. Мафиозной. Он гордится своей меткой, как гордится двоечник единственной пятёркой в дневнике. И не может удержаться от вопроса:
— Скажи, Хель… Он рассказал тебе о нас?
Голубые глаза мальчишки оборачивают назад: ему донельзя интересен ответ. В этом громогласном «он» легко можно угадать: Вильяма он знает.
Вильяма не позвали нарочно.
И мысль, что истинный ответ у Хеля будет отрицательный, может вогнать в ощущение опасности. Что ростовщик знает о том, кто часами назад сжимал его в крепких объятиях? Имя? Фамилию, которую в первый раз озвучил лишь офицер Фигаро Ларсен? Бездонную любовь к поэзии и розовому вину, истинную преданность демиургу Хаоса — так ничтожно мало.
По сравнению с криминальной татуировкой на шее. Есть ли она коже того, кто был с Хелем всё это время? Вопрос остаётся без ответа. Но уже поздно.
Прогулка длится дольше получаса. В западной части Астры практически нет света. Там густая поросль деревьев, склад поддержанных автомобилей и горячие огни одного единственного заведения. Питейного, с вывеской, склонившейся набекрень и потухшими буквами в названии. Люк ведёт Хеля внутрь, кивнув по дороге что-то бармену и отрываясь.
И показывает ладонью на маленький столик в углу. Там ростовщика уже ждут. Два серых глаза внимательно разглядывают его с головы до ног.
— Садись, — звучит из чужих уст вместо приветствия.
И внушительного вида мужчина средних лет заказывает Хелю виски. Янтарная жидкость плещется в стакане, пока фигура напротив расправляет плечи. Она выглядит опасной. Всё в этом месте выглядит опасным: от облачения коричневых кожаных плащей до шляп в жанре высшего общества.
По-своему высшего. Преступного — высшего.
— Я пришёл тебе сказать, — начинает незнакомец, зажигая сигарету и выпуская кольцо пара в лицо ростовщику. — Предупредить. Что до утра следующего дня ты не доживёшь.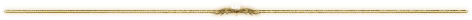
Хель узнает, что по Блаузу можно скучать: по тому, как своими движениями он расцвечивал пространство вокруг, как захватывал внимание, в какой-то мере лишая возможности сделать выбор… Хель думает об этом, идя по залитому светом редких фонарей городу — душному, неспящему. Вулканическая пыль оседает на коже, рев моторов не затихает вдали.
Фигура впереди могла бы принадлежать ребенку, совсем мальчишке — тот, кто представился Люком, угловат и по-детски хрупок. В улыбке его столько открытости, что Хелю хочется улыбаться в ответ. Но он не может, потому что взгляд так и льнет туда, где под одеждой скрыта загадочная татуировка. Мальчишка показал ее так, как хвастаются дорогим сокровищем. Так пятилетка приносит другу надколотого на булавку сверчка, шепчет: смотри, какой красивый. Но здесь вместо сверчка — клеймо незнакомой Хелю организации.
- Он рассказал тебе о нас?
Хель только пожимает плечами — но ответ и так заметен в том, как ростовщик оглядывается, чтобы проводить взглядом исчезающую во вспышке огней гостиницу. Вильям не рассказал о многом, и в воображении ростовщика возникают весы: на одной чаше — тот, кто прижимал тебя к себе, шепча успокаивающие глупости, как целительные стихи, кто ласкал ранящими до ожогов движениями, в чьих оскорблениях нежности было больше, чем в иной улыбке. На другой чаше — палач в красных перчатках. Хель не смог к ним прикоснуться. Он склонился, протянул было ладонь… и не смог. Эти перчатки будто принадлежали чужаку, хищнику, с которых не хочешь столкнуться. Палач мог умолчать о многом. Палач мог оказаться кем угодно.
Хтонику хочется улыбнуться. В его веселье есть привкус отчаянья. Он рассматривает паренька: спутанные отросшие волосы, прямой взгляд. Мальчишка, уже ставший часть чего-то большего. Чего-то, что ростовщику не понять, сколько лет ни проживи. Ему не знакомо это стремление слиться со стаей, в самых смелых своих фантазиях ему не нужны соратники. Только чудовище — всего одно, способное вытащить из-за края. Странно ли хранить своему палачу верность?
И Хель идет следом за незнакомцем. Так бывает, что сделав один шаг, дальше ступаешь уже по инерции — так шел и хтоник, мыслями возвращаясь к словам, которых так и не услышал от Блауза. Не услышал, кем является Вильям. Если задуматься… он действительно до обидного мало знает о происходящем — но сердце смиряется с этим с готовностью приговоренного к казни.
Тот, кто ждет Хеля в баре, на его знакомца не похож ни капли. Хель садится напротив, щурясь с равнодушностью старьевщика: этот человек ему не нравится. Все, что привлекает в Вильяме, отсутствует в том, кто сейчас дышит дымом хтонику в лицо. Там, где Блауз стремился покорить, этот чужак не сглаживает углов. Он сразу заказывает виски — ему все равно прикоснется ли Хель к напитку, и хтоник не трогает даже граненого стекла. Ему хочется оставить здесь как можно меньше своих отпечатков. Хель здесь чувствует себя лишним больше, чем в ресторане отеля.
И ему хочется смеяться — горьким обреченным смехом, потому что кажется: он попал в сказку, где все наоборот. Прошлая ночь кажется сном, нынешняя — его продолжением. Вместо мелодии из старенького магнитофона прокуренные голоса. Вместо ароматного чая — плеск виски и тихий шелест перекатывающихся кубиков льда, когда бокал ставится на столешницу.
— Я пришёл тебе сказать. Предупредить. Что до утра следующего дня ты не доживёшь.
Хель едва не ляпает «я знаю», но успевает прикусить язык. Ему действительно хочется смеяться, хотя ситуация страшная. Но он снова думает о том, как подставлял шею под касания палача. Человек, что сидит напротив, чей взгляд прячется за клубами невежливо пущенного в лицо дыма, не кажется тем, кто ждет улыбки — но Хель все равно улыбается. Криво и некрасиво, так что не различить, чего в этой улыбке больше — веселья или горечи.
Хель делает то, что умеет лучше всего: думает. Если Вильям тоже из этих — почему Хеля решили предупредить? Потому что Вильяма хотят подставить? Хтоник чувствует: он влез во что-то большее, и от этого хочется скорее помыть руки. Хель понимает, что влез в дело, в котором у каждого информации больше, чем у него. И целое мгновение хтоник вспоминает о том, как упирался носом в беззащитное горло Блауза. Так же можно было коснуться чужой шеи наконечником трости.
Вот только — не хочется.
Хель вздыхает.
- Спасибо. Это все? - спрашивает он и тут же думает, как нелепо звучит заданный вопрос. Незнакомец уже должен был понять, что новость хтоника не удивила… но что дальше? И ростовщик щурится, морщит нос, отстраняясь, стремясь убежать от дыма, назойливо льнущего к коже.
Горло саднит, и Хель отворачивается, кашляет в прижатую к губам ладонь. Не от слабости, лишь от липких касаний дыма, пробирающегося в легкие.
Правду можно подать как пальто любимой женщине. Или бросить в лицо как половую тряпку.
На секунду ответ Хеля заставляет незнакомца вздёрнуть брови и едва заметно отпрянуть на спинку стула. На мгновение чужак ошарашен: сигарета погружается в поверхность стеклянной пепельницы, а губы прогладывают дым, выпуская горячий воздух через нос в виде густой струи пахучей взвеси. Таинственный незнакомец молчит: с минуту перекатывая в голове и отрешённую улыбку Хеля, и его нежданную реплику. Тишина тянется канатом: она позволяет увидеть мысли, витающие в чужой голове как поток подходящих фраз, но они не находят отзвука, чтобы быть оглашёнными. Незнакомец звучно усмехается, но в этом смешке нет лицедейства. Едва заметная грусть или вернее — сочувствие. Он сочувствует Хелю.
И показывает это как раскрытую карту.
— Действительно, о чём я думал? — звучит голос, который становится до приятного участливым. — Что спустя сутки найду человека, сохранившего остатки разума? В самом деле. Какая глупость.
И спустя мгновение:
— Я думал, ты сильнее.
Первый укол врезается в самолюбие. Незнакомец смотрит на Хеля исподлобья: купится на эту наживку или нет? Вид ростовщика обманчиво агрессивен: и на это ведутся все. На чёрные узоры татуировок, угловато-острые черты лица, кривую улыбку, больше похожую на оскал. Сковырни кожу — кровь потечёт, а не остатки горячей магмы. Но о последнем догадывается куда меньший процент людей, чем те, кто пребывает в уверенности, что внешний облик Хеля есть маркёр представляемой опасности.
Незнакомец вгрызается зубами в мясо. Сок из жареного бедра куропатки течёт по подбородку, оставаясь на губах каплями сукровицы. В нутро Хеля вгрызались с таким же остервенением: если можно было укусить, чтобы доставить боль, это сделали бы незамедлительно.
Некто готовит для Хеля новый удар. Там где у Вильяма кокетство — у человека напротив иглы манипуляции.
— Я знаю Вилла столько лет, что и озвучивать неприлично. И всё же: прошёл один день — а ты так спокойно принимаешь свою смерть от чужой руки. И она никак не тревожит тебя. Что это? Ментальная магия? Глупость? Желание распрощаться с жизнью? Любовь?
На последней фразе губы чужака изгибаются в усмешке. Он знает, куда бить. Он знает, какие задевать струны. Слишком хорошо ознакомлен с почерком чужой работы.
Слабость можно признавать или отрицать, бегать от того, чтобы облачить её в «слово». Слабость остаётся слабостью — гниющей червоточиной чужой души. Сомнительной надеждой, что «всё обойдётся». Незнакомец вынимает одну из новых сигар и предлагает её Хелю: он видит, как отрешенно его глаза смотрят на тающий в стакане виски лёд.
— Подумай дважды. Подумай ещё раз, пока ты далёк от вмешательства в свои мозги: смерть — это то, чего так желаешь? Умереть от руки человека, который сегодня лобызает тебя в дёсна, а завтра закапывает твой труп в лесу, — это удел твоих мечтаний? Тебе так хочется быть обманутым? Раздавленным? Использованным? Тебе совсем нет смысла жить: не для семьи, не для девушки, не для себя, в конце концов? Я нахожу твой след в Астре, привожу тебя сюда, чтобы предупредить: твой напарник — редчайшая скотина, которая пустит тебе пулю в висок, как только ты сослужишь ему службу. И всё, что ты можешь ответить мне: «Спасибо. Это всё?»
И незнакомец разводит руками в стороны, признавая своё бессилие:
— В таком случае я действительно не могу тебе помочь. Ступай.
Хель смотрит на человека напротив, но вместо показного сочувствия замечает лишь издевательскую усмешку. И кажется, будто в пропитанных заботой словах искренности меньше, чем в любой из улыбок Блауза. Хель думает-думает-думает… и понимает вдруг: этот незнакомец ничего о нем не знает. Может, ничего, кроме строчек в досье, которое наверняка есть. Более того — чужака устраивает сложенный образ, он не собирается заглядывать глубже узора чернил на коже. А это значит: ни одно из сказанных слов не может по-настоящему задеть.
И Хелю хочется рассмеяться. Его самого пугает вспыхивающее под кожей желание защитить напарника. Полный дурак, - вспоминает он ласковый голос. И соглашается. Действительно ведь, дурак! И смех все-таки срывается с губ. Хриплый, некрасивый смех, чем-то похожий на кашель. Хочется зажать рот ладонью, но ростовщик удерживается от этого жеста. Зачем? Ему становится весело, он выпрямляется, сильнее сжимает пальцами трость и смотрит на благодетеля смеющимися глазами.
Слова впиваются в мозг — но он подумает о них позже. Даже о том, как чужак вкрадчиво заглядывал в глаза, намекая: тебя обманули, тобой играли. И Хель бы согласился… нет, он даже согласен: он помнит, как мгновенно расцвела симпатия к Блаузу. Помнит, как тот скользил по лавке внимательным взглядом, как прощупывал, куда можно давить, а куда не следует.
- Вы правы, - тихо замечает Хель, так тихо, что нужно слушать внимательно — в этом есть свои секреты. В медленной речи ростовщика уверенности больше, чем во всех движениях его благодетеля. - Мой напарник — чудовище.
То, как он это говорит, то, как улыбается… так говорят о дорогом человеке, и «чудовище» звучит с такой нежностью, какую не каждый вкладывает в любовное признание. Хель склоняет голову набок, не тянется за протянутой сигарой даже взглядом. Вероятно, он может показаться безумцем — хтоник таким себя и чувствует. Веселье оказывается на вкус лучше любого чая. Веселье чем-то похоже на мимолетное прикосновение к чужим губам — пьяное и больное.
- Вы понятия не имеете, чего я желаю, - медленно тянет хтоник, - но Блауз — не единственное чудовище, которого стоит бояться. Вы когда-нибудь видели в гневе хтоника? - он наклоняется к столу, вглядывается во взгляд человека напротив — ну что, нравится тебе то, что ты видишь? Таким ты меня представлял?
- Советую пересмотреть собранное досье. В одном вы правы: Блауз хорош. Он во лжи куда лучше, чем вы. Согласитесь, не стыдно быть обманутым профессионалом, хуже, когда не замечаешь… любителя.
Хель поднимается, последние слова и движения — почти на грани провокации. Ему снова хочется рассмеяться. Он вдруг задумывается, так ли чувствует себя Вильям, разыгрывая выбранную роль, в которой правды не больше, чем в карнавальной маске. Хель не уверен, верит ли себе сам, но ему кажется, что тот, кто не смотрит дальше узора чернил и потрепанного плаща, не заметит разницы.
- Не прощаюсь, - цедит хтоник и отворачивается. Трость взлетает отточенным и почти изящным движением, и Хель преодолевает расстояние до тяжелой двери уверенным и спокойным шагом. Улыбка не сходит с его лица. Мой напарник — чудовище, мысленно повторяет он. И ему становится так спокойно и легко, будто он уже умер.
Дорога до отеля занимает не больше секунды — пространственная магия избавляет от возможного преследования, и Хель оглядывает свой все еще темный номер. В нем ничего не изменилось, кроме одного: самого ростовщика. Веселье, бурлящее в крови, может быть только предсмертным. Хель наклоняется, сгребая ладонью сброшенные Блаузом перчатки. Он не мог к ним прикоснуться… почему? Потому что боялся палача?
В темноте мысли текут спокойно. Прошлой ночью Хель наблюдал за чужой смертью и тонул в боли. Этой — он любовно разглаживает перчатки. Женский голос лукаво касается уха: ты же помнишь, что он сделал со мной? Он поступит с тобой так же. Ты не доживешь до утра следующего дня.
Хель вспоминает предчувствие, кольнувшее его лишь при первом касании обтянутой красной тканью ладони: этот человек станет твоей смертью. Такие пророчества всегда сбываются, пройди день, два или двадцать лет. Хтоник покидает свой номер быстро, будто пытаясь обогнать собственные мысли. Тянется к соседней двери — на ней никаких меток, он даже не знает, у себя ли Блауз.
Но нетерпеливо толкает дверь… и не успевает удивиться: не заперто. В чужом номере темно, но Хель будто кожей чувствует - Вильям здесь.
- Ты забыл свои перчатки, - громко и с отголосками смеха в голосе замечает Хель, захлопывая дверь за собой. Азарт бурлит под кожей, на языке чувствуется привкус сигаретного дыма. Хель вглядывается во мрак, без труда находя знакомый силуэт. И улыбается — криво, почти пьяно. Знакомо стучат часы, темнота липнет к коже.
- У меня тут состоялся забавный разговор с… кажется, это был твой босс. Он говорит, что следующие сутки я не переживу. Так что я зачем зашел… подумал: чего тянуть? Верно?
Хель не сдерживает смеха — приговоренному к казни положена хотя бы такая милость. Там, где другой испугался бы, где попытался сбежать, хтоник является к своему палачу сам. Весь он — в откровенности слов и жестов. Перчатки летят на стол, пальцы ласкают трость без дрожи, как бывает только в прекрасном сне. А подобные сны снятся крайне редко.
Хель улыбается. Хель смеется — с обреченностью мученика. Он сам не предполагал в себе подобного, но делает шаг в темноту, ожидая чего угодно — взведенного пистолета, ножа к горлу. Ожога слов и прикосновений. В голове сами всплывают строки… и он повторяет их вслух. Его голос не похож на голос Блауза, более хриплый и медленный, словно шелест страниц под дрожащими пальцами. Всего две строчки, что царапнули кожу так, как не смог бы ни один клинок.
Солнце сядет и завтра проснётся рано.
Успокой и скажи, что зимы не будет.
Отредактировано Хель (2022-07-08 18:12:58)
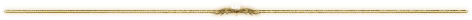


Вильям чувствует сквозь сон: тяжёлые шаги по коридору, звон наконечника трости, скрип старой половицы. Между его комнатой и комнатой напарника десять шагов. Десять — их можно услышать, если быть достаточно внимательным, если вслушиваться в каждый чёткий звук из коридора. Пробуждённое сознание узнаёт эту походку: только единственный в мире так звучит.
Вильям открывает глаза.
Свет, проникающий из дверного проёма, на секунду обезоруживает и режет. Вильям болезненно зажмуривается и закрывает лицо ладонью, привыкая к смене обстановки. Но это оказывается не нужно. Тот, кто без приглашения зашёл к нему в гости, восстанавливает приятную темноту: пока глаза привыкают к возвращённому мраку, уши отчётливо слышат — дверь захлопывается. Это резкое движение не походит на обычную вежливость, оно скорее звучит как щелчок закрывшейся мышеловки.
Кошка поймана, кровит лапа, застрявшая в ловушке. Мышка издевательски шуршит в углу.
— Ты пил? — задаёт вопрос Вильям, наблюдая за тем, какая нехарактерная улыбка украшает лицо ростовщика.
Он никогда не видел его таким: рука удерживает трость не как подпорку — как оружие. В уверенных крепких пальцах чувствуется энергия и сила, столь не похожих на слабость неидеального тела. Неидеального — в памяти ещё свежи обрывки прошлой ночи. Кашель, смешанный с пеплом, узоры трещин на коже и долгое страшное забвение. Царапающие живот пальцы: «Пусти меня, пусти...» Поразительным контрастом в Вильяма сейчас врезаются глаза-клинки. Самоуверенные. Дерзкие.
— Ты забыл свои перчатки, — смеётся чужой голос.
Блауз сонно моргает. Хель видел, как он подчищает следы после взлома комнаты жрицы. С каким равнодушием прячет гильзы в карман и вытирает отпечатки пальцев с ещё тёплого трупа. «Забыл перчатки». Он действительно верит в правдивость своих слов?
— Я не забыл, — отвечает Вильям про себя, но вслух не озвучивает. — Я оставил тебе нарочно. Чтобы мозолили глаза.
А губами произносит:
— Если ты приходишь ко мне под покровом ночи, почему в одежде?
И на губах проступает улыбка. Вильям опирается на ладони и оседает в кровати, ловя взглядом каждую деталь во внезапной перемене его жизни. Резкое, заострённое лицо Хеля украшает победная улыбка, осанка, полная достоинства: будто он заранее знает, что соперник будет повержен. Его широкий неправильный рот, кажется, занимает половину лица, а глаза сверкают огнями, в которых Блауз узнаёт собственных чертей.
Так горит азарт.
Вильям напрягает спину в лопатках, и левая ладонь медленно тянется к пространству под подушкой. Он замирает: в окаменевших плечах, напряжённой позе читается готовность к броску. Магическая аура сгущается подобно радиоволнам. Вильям готовится бросить ментальную магию, атаковать так, как он привык. Заранее, не дожидаясь первого нападения со стороны.
Невидимая взгляду кобра сгущается внутри, обнажает острые ядовитые клыки для броска, чтобы в последний момент…укрыться с позором в норе. Вильям слышит чужой голос и не может ему поверить. Его раскрыли. Он пойман.
Глаза неловким движением опускаются вниз. Лицезреют чужие ноги.
— Это с моим «боссом» ты пил? Имя? Как выглядит? Что-то ещё можешь вспомнить?
На губах проступает усмешка. Это нападение равно защите. Вильям заранее знает, что проиграл эту битву. Его голос предательски дрожит. Длинные пальцы сжимают поверхность простыни, и целое мгновение он замирает в этом пространстве. Здесь только он и его палач.
Одна жертва и одно чудовище.
— «Не переживёшь следующие сутки». Как интересно. Может, и я не переживу, — затем голос почти переходит на крик. — Может, мы оба умрём?
Сердце в груди заходится от бешенных ударов. Вильям замолкает и чувствует, как лихорадочно пульсирует его сердце под тканью тонкой белой майки. Он не был готов к такому повороту событий, он не успел продумать верные слова, застигнутый врасплох. Хель поймал его: как ловят даже самую быструю и юркую ящерицу.
Но даже в самый последний момент…
Ящерица пытается отбросить хвост.
— А, возможно, действительно… Чего тянуть? — улыбка, полная коварной ласки украшает бледное лицо.
Вильям сгибает руку в локте и пальцем манит Хеля к себе — зазывно, почти любовно. С нескрываемой нежностью и лаской.
— Подойти ближе. Сядь на кровать.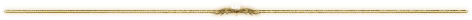
Я запомнил сон, где мы вдвоём
Пытали день, морили ночь,
Пускали кровь своей мечте -
Она не сохла на ноже.

Даже в темноте Хель видит глаза напарника. Противника. Взгляд хтоника легко справляется с мраком, когда нужно. Как сейчас: темные омуты притягивают, завораживают так, что хочется поверить, будто все это наваждение, искусное творение чужих рук. Но Хель не может или не хочет — он улыбается. Сердце бьется так, словно пытается нагнать все удары, отпущенные за жизнь.
Хель видит: искренность чужого страха. Страха впервые пойманного в ловушку охотника. И ему хочется смеяться — потому что он никогда не представлял себя палачом. И даже сейчас не может представить. Вместо этого он скользит взглядом по чужому телу, обтянутому белой майкой, по пальцам, впивающимся в простыню.
Некоторые вопросы не требуют ответа — и Хель молчит. Весь его мир сжимается до размеров комнаты, до размеров человека, который должен стать его смертью. Сейчас он в этом уверен: обязательно станет. И когда Вильям срывается, это застигает хтоника врасплох.
Может, мы оба умрем?
Чужой голос режет так, как не смогло бы оружие. И улыбка хтоника гаснет — но не полностью, оставляя горечь кривой ухмылки. Не победной. Победители так не улыбаются — только те, кто пришел умирать. Пальцы роняют трость — специально, отбрасывая оружие. Отбрасывая единственное, чем хтоник мог бы себя защитить. Он не хочет защищаться.
Во взгляде напротив обещание смерти.
В глазах хтоника — ее желание. Трость касается пола с глухим беспомощным стуком. Чужая ладонь манит к себе. На виселицу. На плаху. Хель тихо смеется — с беззаботностью пьяницы. С обреченностью того, кто слишком устал. Чудовище в клетке ребер ворчит довольно и счастливо, оно впервые так близко к свободе. Или к гибели своего надзирателя — не все ли равно?
Хель двигается медленно. Так, чтобы ни один из жестов не напоминал угрозу. Ему не нравится затравленность в чужом взгляде. Он случайно захлопнул ловушку, но и сам с готовностью влез в нее, подставляя тело зубьям капкана. Хель улыбается снова — но не пьяно, а горько. Будто смиряясь с желанием своего убийцы. Но у его убийцы было еще одно желание… пусть и высказанное со смехом.
Хтоник снимает плащ, как иные сняли бы кольчугу. С шорохом плотной ткани Хель словно оставляет и надежды пережить эту ночь. Он смотрит на человека, под чей нож готов подставить шею. К дулу пистолета готов прижаться виском.
Пальцы путаются в шнуровке жилета, но не справляются, и оборванные нити так и повисают, а жилет остается на теле последней преградой от возможной боли. Удавка амулета на шее кажется невесомой.
Хель проходит вперед и садится рядом с Вильямом, заглядывает в глаза. Словно спрашивает: вот так? Достаточно? Что я еще должен сделать? Чужие глаза гипнотизируют. В них есть что-то змеиное — как и в том, как напряжено тело напарника. Впервые Хель видит человека напротив таким уязвимым. Смех будет неуместным.
- Я не пил, - тихо выдыхает Хель, - но вспоминал…
Его голос гаснет, как последний вздох приговоренного. Вспоминал — стихи, колкость чужих объятий. Ни одной трещины на бледном теле, ничто не нарушает изменчивого узора чернил — зато под кожей ветвится терновый куст. Сделай надрез — и он прорастет шипами. Захватит всю комнату, сожмет в последних объятиях свою жертву. Ну и что, что жертва намеревалась быть палачом.
Хель чувствует: здесь сейчас они в равной мере смертники и в равной — чудовища. И это заставляет податься ближе, приблизить свое лицо к чужому. Кажется: еще чуть-чуть, и Вильям должен понять, что он лишь повторяет чужие движения. То, как сам Блауз ловил его в ловушку — во взгляде хтоника такой же капкан. Он так же приближается… но не удерживает. И ждет, когда противник достанет пистолет.
Хель помнит темный рисунок татуировки на шее у паренька, что вел его через ночной город. И сейчас, когда взгляд Блауза горит так близко, гадает, найдет ли такой же рисунок на шее напарника. А еще гадает, как много прикосновений может выдержать его тело прежде, чем чудовище вырвется из клетки. Но собственный зверь впервые не кажется страшным — слишком он доволен сейчас, его так же манит омут темных глаз. Так же манит привязь холодных рук, сейчас лишенных перчаток.
Ты — моя смерть, - думает Хель, и эту мысль невозможно не разглядеть во взгляде. Обреченность с каждым ударом сердца выступает на коже, оседает на ней горьким привкусом книжной пыли. Хель чувствует себя живым и думает, что это вполне стоит любой муки.
Он вспоминает, каким взглядом Вильям ласкал череп в лавке. Как пальцы, обтянутые красной тканью, ласкали выбеленные косточки, подглазные впадины, линию нижней челюсти с тонким рисунком ничего не значащих рун. Некоторые вещи имеют ценность только когда они кому-то нужны. Хель смотрит так, что не остается сомнений: сейчас он больше всего нуждается в смерти.
- Я здесь, - шепчет Хель, - убьешь меня?
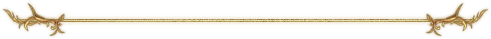
Солнце заливает утреннюю трассу. Уши слышат приятное щебетание птиц, лёгкие втягивают в себя аромат хвойной смолы и шишек. Вильям ведёт аккуратно: автомобиль под его руками умелое и подвластное существо, которое лишь слегка заносит на поворотах. Фрэнсис смеётся и вытягивает голову через прорезь окна. Солнце щекочет её лицо с россыпью бледных веснушек под глазами.
— Смотри, какая фотография, — она протягивает в сторону водителя маленький снимок, проявленный на плёнке.
Там Вильям, обнимая Симбера за плечо, весело хохочет в столовой штаба. На нём нет привычного лоска одежды: какая-то серая майка, какие-то нелепые джинсы с дырками на коленях. Он выглядит моложе, чем сейчас: нет мелкой сетки морщин у губ, черты лица угловатые и взгляд — далёк от эталона ментального мастера. На фотографии лишь двое товарищей, что разделяют службу, смеются и пьют пиво. Вильям хмыкает в ответ. Фрэнсис улыбается:
— Мне она очень нравится.
Фрэнсис всегда носит с собой фотокамеру. Вильям за годы, проведённые бок о бок со своей напарницей, знает это лучше остальных. Они делят миссии, раны, у них одна раса: антрацифия Фрэнсис — изображение трёх маленьких медуз на запястье. Они делят постель: между ними долгие отношения, держащиеся за любовь с одной стороны. Фрэнсис касается Вильяма как никто другой. Её губы шепчут ему слова, идущие от сердца, и она отдаёт ему всю себя. И Вильям тает: он не может отказать себе в удовольствии быть любимым. Пусть он не может любить в ответ — Фрэнсис, кажется, достаточно того, что ей позволяют.
Открыть сердце настолько, насколько это возможно. Не быть отвергнутой.
— Что дальше? — тревожно спрашивает Вильям, резко выкручивая руль. — Уйдёшь из Коалиции…и?
— Пережду некоторое время на Сабаоте, в Верде. Начну новую жизнь. Открою кофейню или фотостудию. Сменю имя, внешность — всё с чистого лица. Легионеры-разведчики никогда меня не возьмут.
— Фрэнсис, — из уст Вильяма это имя звучит как горечь. Девушка вздрагивает. — Ты предала их. Слила информацию террористам. Они знают.
— Пошли заляжем на дно вместе? — предложение царапает по сердцу не хуже ножа. — Не суди меня строго. Мы знаем друг друга десять лет. Коалиция рас не то, чем кажется. Пожалуйста, Вилл?
Тишина кажется часом. Вильям отрезает:
— Нет.
Фрэнсис молчит. Опечаленно опускает глаза. Камера в её ладонях отражает силуэт лица в глянцевой чёрной поверхности корпуса. Вильям заворачивает в сторону леса. Солнце прячется за верхушками деревьев. Птицы всё так же приятно поют.
— Куда ты меня везёшь? Я хотела не туда.
Вильям ничего не говорит в ответ. Смысл этого молчания доходит до Фрэнсис слишком поздно. Она лишь смиренно улыбается в зеркало водителя, и её глаза наполняются слезами. Не плачет, держится. Вильям останавливается у лесополосы. В последний раз открывает перед девушкой дверь.
Фрэнсис всегда носит чёрные вечерние платья. Она смотрит под ноги, на землю, смешанную со мхом, и элегантным движением скидывает со ступней туфли на тонкой шпильке. В свой последний день жизни она хочет пройтись босиком. Ощутить кожей прохладную поверхность земли и жухлых листьев. Они останавливаются недалеко. На расстоянии двенадцати шагов друг от друга на поляне около оврага. Вильям вытягивает вперёд руку с пистолетом.
— Даже последнее желание нельзя? — разочарованно вопрошает Фрэнсис.
А после, не встретив сопротивления, прикладывает камеру к лицу. Вильям чувствует, как его сердце истекает кровью. Как щёки становятся влажными от слёз.
— Ну же, улыбнись, Вилл. Тебе так идёт улыбка. Пожалуйста, смотри на меня. Не отводи взгляд ни на секунды.
Яркая вспышка камеры — громкий выстрел в грудь. Тело Фрэнсис падает в овраг. За секунду до выстрела Вильям закрывает глаза. Ему не хватило духу. Он не может себе этого простить. Не может.
И Блауз выныривает из этих воспоминаний с одной единственной мыслью: любой, даже самый последний человек, достоен перед смертью видеть глаза убийцы. Он навсегда запомнит грустные серые глаза Фрэнсис.
Он навсегда запомнит отчаянные серые глаза Хеля: в них насмешка перед сущностью смерти и своей судьбой. В них такая же готовность умереть.
И Вильям делает то, что он не смог сделать тогда. Он не отводит глаза.
И едва уловимо смеётся в ответ.
— Я же сказал: полностью.
И пальцы подхватывают шнурки на жилетке единым узлом. Глаза не отрываются от лица напротив, но руки находят вслепую: ту петельку, за которую стоит потянуть, чтобы ослабить. И Вильям с удовольствием отмечает, что у его напарника есть чувство юмора. Странноватое, как и он сам.
— Цитируешь стихи, которые я читал? — с мягким тоном переливается приглушённый в ночи голос. — Я много знаю. Но вчера я, кажется, сильно перепил, и меня понесло.
И из груди вырывается довольный стон:
— Не жалею. Считаю, что, если хочешь сделать что-то, делай это хорошо. Пляши пьяным на барной стойке, пей серенады под окнами любимым женщинам. Читай стихи — но без запинки. Скажи, Хель, я ведь не запинался?
Чужие глаза увлекают как вязкое болото. Вильям хочет их запомнить до конца: длинную массивную переносицу с искривлённой перегородкой, густые брови, прямые ресницы.
«Особенный» — левая рука призывно чешется у запястья. Вильям знает, что после на ней останется новый шрам. Новое имя. Новая память.
И левая рука, всё это время скрывающаяся под подушкой, достаёт из-под неё табельное оружие. И направляет хтонику в живот.
Но Вильям не говорит ничего. Между ними таинство тишины — такое же, как в лавке, в часы, когда ростовщика увлекала книга. Они оба понимают тяжесть и приятность молчания: им нечего сказать друг другу.
Их звери говорят друг с другом лучше любых слов. Посредством утробного рычания.
Вильям чувствует слабость в пальцах, так легко сжимающих родной пистолет. Он ведёт им по чужому животу наверх, огибая шнуровку неснятого жилета. Касаясь шеи: в этой власти есть истинное удовольствие — поднять Хелю подбородок. Видеть, как податливо следуют мышцы за приказом чужой воли. За прохладным дулом пистолета. Как с приподнятым вверх лицом Хель выглядит высокомерно-недоступным.
Вильям знает: Хель не такой. Он большая чёрная кошка, которую можно пригреть к рукам. И она будет мурчать, чувствуя прикосновения чужой ласки.
Рука застывает в одном положении, возводит курок. Вильям знает: смотреть в глаза. Обязательно смотреть в лицо. Иначе всё это неправильно и напрасно.
И чувствует, как нечто ломается в нём с крошевом, душа летит в обрыв с огромной высоты. Он отводит дуло пистолета и бьёт Хеля локтем по лицу наотмашь. С той жестокостью и силой, что свойственна чемпионам, упустившим внезапно первое место. С той ненавистью, которая говорит: «Ты меня сломал». С тем кулаком, который сжимает чужие волосы и обеспечивает встречу лица с коленом.
Хеля сталкивают с кровати. Разукрашивают ударами лицо. Пистолетом, ногой, толчком.
Засыпает Вильям. Просыпается Чудовище. Окрашивает пальцы тёмными чернилами магической вази, прячет черноту радужки в изменённых чёрной завесой белках. Монстр готовится к новой атаке. Монстр вгрызается в чужую шею остротой человеческий зубов. Там, в невидимой клетке Хеля, иная сущность может улыбнуться.
Этот укус в шею — болезненный, глубокий. Эта удушающая хватка, прижимающая тело ростовщика к полу — лишь речь зверя, что говорит на одном языке с собратом по клетке.
— Ты будешь жить, — шепчет Вильям, наседая сверху, рисуя руны на чужом теле. — Прощайся со своей памятью.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-22 00:12:34)
На заре, на расстрел,
От воды, от огня
Я умру, я умру, я умру за тебя

Грудная клетка вздымается с каждым вздохом — медленнее, чем должно быть. Хель чувствует: нужно бояться, нужно бежать. Но он не может, загипнотизированный, завороженный. И он поддается, когда чужие обжигающие руки справляются со шнуровкой жилета. В глазах напротив — прорва кошмаров, таких, что ростовщику и не снились. Но он с готовностью впитывает их, подставляясь под чужую ладонь. Мимолетное касание ожогом цветет под ребрами.
Сейчас ростовщик вслушивается в каждое слово своего палача. Не пропускает ни капли чужого смеха, чужого страха, чужого волнения. Ответить ему нечего — ответ и не нужен. Хель просто слушает, смотрит… и чувствует: есть милосердие в том, чтобы ни на миг не отворачиваться от лица будущей жертвы. Хель не чувствует себя жертвой. И не чувствует — чудовищем.
Хель улыбается. Когда холодное дуло пистолета прижимается к животу, он чувствует: все. И выдыхает едва ли не с облегчением. Касание металла к животу, медленное движение вверх — своеобразная ласка, не причиняющая ни грамма привычной боли. И хтоник послушно не двигается, даже не вздрагивает, хотя по спине ползут мурашки, а пальцы, сжатые поверх простыни, сводит от напряжения. Страх рвется из-под ребер и не может ничего сделать, как Хель не может разорвать зрительный контакт. Не хочет.
Он думает: больно. Когда дуло пистолета касается шеи, оставляя след мурашек на коже. Когда хтоник послушно приподнимает голову, следуя воле чужой руки. В глазах Блауза Хелю чудится страх больший, нежели в собственном сердце. Чудится обреченность загнанного зверя. И хтонику хочется улыбнуться. Он знает: это неправильно. Но все равно выдыхает:
- Все в порядке.
Как будто желает успокоить своего убийцу. Как будто имеет на это хоть немного права. Вся его суть умоляет закрыть глаза, но ростовщик замирает и впивается в чужой взгляд с еще большей жадностью. В чужое лицо, впитывая каждую деталь, каждую черточку. Дерзость вызова мешается с отчаянием невысказанного желания. Все в порядке, - мысленно повторяет Хель, готовясь узнать наконец, что же там, за гранью, от которой он бежал так долго и так успешно.
Но выстрела не следует. За смазанным поцелуем металла Хель чувствует боль, раскалывающую череп. От следующего жесткого удара перед глазами темнеет — и больше ростовщик не видит завораживающего взгляда, зато чувствует боль. И она… ослепительна. Именно такая, как он в глубине души хотел. Именно такая, чтобы чудовище заметалось под ребрами, взвыло, прорываясь в прутьях грудной клетки. И за всем этим мысль, тревожная, болезненная: Хель жив.
Хтоник знает: он не боец, но тело действует само, против воли своего владельца стремясь избежать боли. Не получается. Удар за ударом, ожог сменяется ссадиной, поцелуй металла оставляет эхо будущего кровоподтека. Хель не хочет защищаться, он слишком долго ждал эту боль — настоящую, яркую, как белая линия шрама на чужом запястье. Не похожую на муку ночных кошмаров. Реальную.
Происходящее кажется почти что разумным продолжением прошлой ночи. Почти справедливым: и хтоник подставляется под удары с той же готовностью, с какой его самого обвивали чужие руки, удерживая на грани, не давая соскользнуть во мрак безумия. Кровь заливает лицо, движения Блауза — умелые, но рваные, выдающие истину: он сорвался. Так, как срываться умеют только те, кто привык запирать себя в клетки. Хель это знает.
И когда в шею врезаются зубы, он шипит и бьется под навалившейся тяжестью. Боль словно печать, оставленное клеймо. В ней есть своя прелесть, но тело считает иначе, тело стремится ее избежать. Чудовище под ребрами рычит довольно, оно почти счастливо, оно знакомо с болью лучше всего. И оно призывает: давай, выпусти! Отвори клетку, позволь тебя защитить. Но Хель держится, хотя кажется: вместо замка вот-вот надорвется его собственный разум.
Мрак рассеивается — лишь для того, чтобы Хель мог увидеть бледное лицо Вильяма. Увидеть, как чернила выступают на коже, завораживающие, прекрасные — и ядовитые, жаждущие липко коснуться кожи. Боль сливается во что-то фоновое и невообразимо прекрасное.
— Ты будешь жить, — шепчет Вильям, и хтоник тщетно пытается стряхнуть чужую руку. С чужого подбородка капает кровь, она покрывает губы, зло кривящиеся сейчас. Хель видит чужое чудовище близко, чувствует всей кожей...
— Прощайся со своей памятью.
И его собственный зверь перестает жаждать крови. Вместо этого Хель цепляется за чужое плечо, притягивая противника ближе или приподнимаясь сам — понять сложно, да и нужно ли, если творимое колдовство прерывают поцелуем. Не поцелуем даже — укусом, почти таким же, что оставил след на шее хтоника. Губы прижимаются к губам не с нежностью, а с больным желанием, с алчным намерением терзать. Зубы впиваются в чужие губы, раня, смешивая кровь с кровью.
Хтоник закрывает глаза, подаваясь всем телом к противнику, принимая боль как единственно доступную форму нежности. Так близко, будто желая врезаться в чужое тело подобием лезвия. Оставить шрам — глубокий, глубже любого, что сам Блауз вырезал на запястье. Такого, что не забудешь, даже если захочешь. Сотри память, но шрам останется — рваным уродливым рубцом.
Пальцы впиваются в плечи Блауза, не позволяя отодвинуться, не позволяя продолжить узор магической вязи. Чернила колдовства мешаются с кровью, руки не скользят по чужой спине — а словно вспарывают кожу. Лопатки, защищенные только тканью футболки, шея, на которой пальцы не распознают татуировку. Не угадают даже — есть ли она вообще. Это не кажется важным.
В отличие от желания быть ближе. И кто из них теперь жертва?
Хель не умеет целовать, но сейчас словно и не пытается. Оторвавшись от чужих губ, окровавленно, пьяно хтоник касается подбородка таким же поцелуем-укусом. Ты меня не забудешь, - кричит каждое прикосновение. Я не забуду тебя. Там, где разум будет бессилен, шрамы скажут сами за себя. Кожа хтоника не сохранит следа — но что-то останется, фантомная боль над шнурком амулета. Смазанное видение, заставляющее вскакивать с криком, а затем выть белугой от чувства, что потерял что-то важное. Ценное.
Ты — моя смерть, - повторяет касание губ. Но и я стану твоей смертью, - язык слизывает кровь с чужой щеки. Забудь, если сможешь. Но — не сможешь. И понадобится много времени, чтобы хотя бы суметь подумать о визите в лавку редкостей на Хароте. Целая маленькая вечность. Забирая память другого, своей не сотрешь, маг?
Умрем оба, - согласно шепчет еще один поцелуй. Рваный, болезненный, почти нежный. Перед тем как чудовище, насытившись, замолчит, забрав с собой придающую сил ярость, оставив… просто человека.
Которого уже получится оттолкнуть.

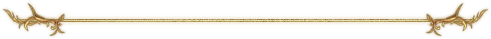

Зверь вглядывается во тьму пространства. В ней клетка, и внутри её Некто, кто заставляет сердце Зверя трепетать. Чудовище тянется сквозь прутья. Его длинные семипалые пальцы хотят коснуться того, другого. Такого же, как он сам.
— Привет, — ласково шепчет Чудовище своему собрату. — Представляешь, он думал, что тебя не существует.
Воображение Вильяма рисует: Харот, Тульпа, лавка редкостей на отшибе опасного мира, а в ней субтильного телосложения юноша. Он не выносит чужих прикосновений, отворачивается, чтобы не встречаться взглядом. Переставляет книги, ведёт пальцами по их тиснённым обложкам, много думает про себя. И Вильяму кажется: не хищник. Он сам по себе то ещё чудовище. Ласкает союзника ментальной магией, называет дураком, играет: так в заигрывающих движениях кошки есть чувство превосходства над мышкой. И кошка уверенна в своей правоте, пока не ломает когти о железобетонную броню своей «жертвы».
Вильям верит, что он чувствует хищника издалека. Зверь ядовито улыбается: он не заметил самого страшного монстра. И видит его только тогда, когда монстр оголяет перед ним сущность добровольно.
В груди Зверя клокочет смех. С гибкостью гепарда оно пытается пролезть сквозь прутья, проникнуть ближе, слиться: так в сущности животных есть потребность общения с кем-то из своих. Не пускают. Зверь смотрит на собрата с обожанием, и в его глазах восторг. Он готов поклониться, готов признать чужое превосходство, воспевать как высшее существо того, кто сумел обмануть «хозяина».
— Ты прекрасен, — воспевает Зверь и оседает на полу.
Он протягивает сквозь металлические прутья своему собрату сердце. Оно человеческое, небольшое. Бьётся, пульсируя, в тисках, истекая кровью. И Зверь заворожённо улыбается:
— Это мой тебе подарок. Прими.
Он знает: многие пытались. Вильям прячет своё сердце с упорством ледника: многие желали укусить внешне чувственную мякоть и поломали зубы. Но Зверь знает: зубы его собрата войдут в это сердце насквозь. Прокусят до самых внутренних жил, и оно будет лихорадочно биться, выпуская кровь из крупных артерий. Сердцу будет больно.
Сердце это заслужило.
И Зверь понимает, что в чудовищных глазах напротив он встречает нечто, чему готов поклониться. Любить до конца жизни. Так не кумир создаёт своего последователя, но последователь встречает кумира. В этом есть ирония мира: болезненно слабый Хель и сворачивающий горы Вильям.
Как непредсказуемо, что часть силы готова склониться перед слабостью другого, поверженная и разбитая неосторожным прикосновением.
Улыбка Зверя оседает на лице десятком болезненных укусов. Вильяму возвращается контроль: чужие руки сжимают его в тисках с непримиримостью пыточника. Он хочет вырваться из-под захвата, вдыхает воздух, как вытащенная на берег рыба, но ему не дают. Разум упорно твердит: он это заслужил. Вильям и сам не понимает, зачем ему нужно было так болезненно и открыто кусать другого. Это желание вырвалось как нечто иррациональное, лишённое смысла, но необходимое.
Чувствовать ртом пульсацию чужого сердца, слышать тяжёлый выдох из груди и удерживать руки, которые в первую секунду захотят оттолкнуть. Врезаться клыками в мякоть, рвать мясо на куски. Язык помнит: солоноватую тёплую кожу под ухом, хрип лихорадочно втянутого воздух в горло. Привкус крови в собственном рту: чужой. Она, кажется, и на вкус другая, чем у него.
Сколько страсти может держаться в человеке, желающем поглотить другого? Вильям помнит крепко сдерживающие его за плечи пальцы: не поцелуи — укусы животного, желающего власти и демонстрирующего её. Боль расцветает во рту: прокушена губа, на подбородке зияют следы зубов. Ладони Вильяма упираются в человека напротив, прижимая его к полу.
— Хватит.
Единственное слово. В нём спокойное принятие. В нём поражение существа одного над существом другим. В нём усталость лошади, что сломала ногу. И Вильям падает: на мягкое тело впереди, на острые возвышения неудобных рёбер. Кажется, в силе его мучителя мощи не больше, чем в хрупкой девушке. Но так обманчиво сильно могут удерживать ладони, когда им что-то нужно.
— У меня есть для тебя нечто особенное, — говорит Вильям на ухо, зная, что его слышат. — Про тебя.
Он устаивается поудобнее в ямку чужой шеи, запрокидывает голову вверх. Знает: сейчас его будут слушать. Там, в знакомых чертогах чужих глаз пропадает монстр и появляется Хель. Вильям касается его щеки узором густых чернил. Они рисуют вертикальную палку, две ломанные линии поперёк. Вильям хочет стереть Хелю память. В этом милость спасти его от смерти. В этом то правильное, что Вильям может для него сделать.
И он читает:
«Я маленьким был, и зимой
Снежинка легла мне на руку.
Снежинку принес я домой
Как нового дивного друга.
Но только зашел на порог,
Туда, где кончается стужа,
Глазам я поверить не смог —
Осталась в руке моей
Лужа.Я вырос немного, и вот
Заметил вдруг летом однажды
Цветок у соседских ворот.
И стало вокруг все не важно.
Сорвал и домой я понёс
Цветок, драгоценный как будто.
И сколько моих было слез,
Когда же завял он наутро.Не должен я был и тебя,
Присвоив, тащить за собою.Прекрасное что-то найдя,
Так трудно оставить в покое».
по Дарье Баженовой
Пальцы ведут по щеке Хеля вниз. Хрупкое движение смазывает идеальный рунический символ. Он остаётся перекошен: огибая угол нижней челюсти и останавливаясь у губ. Такой руной не построишь идеальную магию. Зверь в сознании Вильяма смеётся, обнимает его спины и сжимает в любовных тисках. Зверь знает: Вильям не хочет.
Не хочет, чтобы его забывали. Эгоистично, тщедушно и настойчиво. Вильям выдыхает.
И поддаётся. Следующий удар в нос лишает Хеля сознания. Чтобы другим днём он очнулся в ином месте. Но помнил — каждую болезненную секунду прошлой ночи.
В травмопункте. В белоснежной комнате медицинского работника, в чьих неторопливой речи и отрезках глаз из маски Хель мог бы узнать что-то знакомое. Неуловимое — но знакомое.
— Этот проклятый отель надо закрывать! — раздражённо скажет врач, заканчивая перевязку. — Сначала убитая девушка. Потом вы, у вас сотрясение, вы избиты. Пропал один человек, ваш сосед. Что за кошмар у вас там происходит?
И доктор приложит к щеке Хеля лёд и снимет маску. И тогда Хель его узнает.
Высокий рыжий парень в очках. С одной единственной фразой, которая может возникнуть в голове Хеля при веде его лица: «Женева, что не так с тобой?».
Один из культистов.
Один из них.
— Офицер Ларсен ждёт вас снаружи. Вы как, можете говорить?
Одиночество запертого чудовища — то, что никогда не мог осознать его хозяин. Слепая ярость, неутоленный голод, родившиеся давным давно под перестук костей под влажными от пота ладонями. Кровь, заливающая руки, приказ убраться прочь. Зверя заперли силком, захлопнули клетку обманчиво хрупких ребер, чтобы даже не заглядывать внутрь. Забыть, что он там, не обращать внимания на вой и голодный рык, на стачиваемые когтем кости.
Жажда крови утихает, когда чудовище понимает: даже в заточении его отыскали. Чужак прекрасен в каждом своем жесте. В каждом движении. Отличающийся. Такой же. Там, где у одного хрупкость стекла, у другого — острая сталь. Где один истекает кровью, другой обрастает шипами.
Ты — мой.
Чужое сердце на вкус как горечь потерь, как сладость мучительных кошмаров. Оно — сокровище, о котором запертый в клетке монстр не мог мечтать. Не мог даже помыслить, что награду не придется вырывать из-за преграды ребер, что ее протянут сами, добровольно, вложат в подставленную ладонь. Зверь не знает слов благодарности, его никто не учил жить в мире с хозяином. Он радуется собственной боли.
В глазах напротив — безумие искренней любви. Счастье. Больное, мучительное, как окровавленные губы, кривящиеся в улыбке. Как смех, звучащий на самом краю обрыва. И чудовище тянется в ответ, благодарное, покоренное этим обожанием. Алчущие чего-то живого пальцы наконец обретают то, за что можно держаться, и клетка уже не кажется клеткой. Она — убежище. Подходящее, чтобы укрыть и себя, и любое сокровище.
Зверь счастлив. Он сыт. Он наконец-то нашел собрата, к которому можно прикоснуться. Которого можно терзать. Которому сам готов подставить брюхо. И он чувствует: привязь чужих рук прочнее любой решетки. Надежнее. Память слаба, но эта цепь — как натянутая линия колючей проволоки. Терновник, прорастающий сквозь каждый укус. Чудовище не умеет благодарить, но оно знает: взамен на бесценный дар отдаст всего себя. И своего хозяина — обрекая на любые пытки.
Я — твой.
- Хватит.
Хель открывает глаза, отрывается от чужих губ, чувствуя вкус крови, чувствую боль везде, во всем своем мире. Видя в глазах противника нечто страшнее самой мучительной смерти. И хтоник расслабляется, лопатки ударяются о поверхность пола, чужое тело скользит следом — обманчиво мягкое, покоренное. Пальцы, не желая отпускать, замирают поверх чужого плеча, в разрыве футболке, как в ловушке. Боли так много, что ее будто нет вовсе.
Запах чужой кожи, запах крови, отчаяние продолжающейся жизни — все сливается воедино, когда желанное тело льнет ближе, истекающие чернилами колдовства пальцы ведут по щеке.
— У меня есть для тебя нечто особенное. Про тебя.
Хель улыбается — пьяной больной улыбкой, напоминающей оскал или пропасть кровавой раны. Рот полнится кровью — чужой, своей. Чудовище затихает под ребрами довольное, счастливое, обласканное. Хель ведет пальцами по хрупкости чужого плеча — осторожно, ласково. Почти невесомо.
Хель понимает: он все забудет, и от этого горько, страшно, но зверь внутри ворчит успокаивающе. Он так счастлив, что готов утешить хозяина. Ты забудешь, шепчет чудовище, но я буду помнить. Не бойся. И тычется окровавленной мордой в подставленную ладонь, не желая кусаться. Он — мой, понимаешь?
В стихах Вильяма — поражение. Признание. Отчаяние вынужденного поступка. И Хель слушает, впитывая каждое слово всей кожей, подставляясь под лезвие чужого голоса.
Прекрасное что-то найдя,
Так трудно оставить в покое.
Он — твой, - шепчет чудовище. Наш. Понимаешь?
Хель чувствует, как срывается хрупкое движение вдоль щеки, как останавливается — неровно. И магия оседает на коже. Незавершенная. Неправильная. Сердце ликует. Оно хочет помнить. Каждый момент этой ночи, каждую каплю крови. Тело не сохранит ни шрама — но в память врежется все. Каждый укус, каждая ласка. Каждый удар, прорастающий терновником. Оплетающий пространство. Привязывающий к себе, приковывающий.
Я тебя не забуду, - обещает взгляд хтоника.
Ты не забудешь меня, - вторит монстр перед тем, как заснуть, баюкая чужое истекающее сердце в ладонях.
Хель поворачивает голову, прижимает нос к обнаженной коже чужой ладони, закрывая глаза, вжимается губами. Нежно, оставляя кровавый след и ломкость прощального поцелуя. Чувствуя привкус густых чернил. Чужой выдох звучит как эхо собственного.
Хтонику думается: он действительно умер. И холод склепа впервые не кажется страшным.
Он открывает глаза спустя бесконечность хрупких мгновений, в каждом из которых прижимается губами к чужой ладони. Отражением того, как монстр тянется слизать кровь с несущих смерть пальцев. Среди стерильной белоты комнаты, под сливающиеся во что-то мучительное звуки — Хель помнит все. Так четко, что на шее горит след укуса. Тело послушно, оно не торопится залечивать раны, оно наслаждается каждым осколком боли, потерявшимся под ребрами.
— Этот проклятый отель надо закрывать! Сначала убитая девушка. Потом вы, у вас сотрясение, вы избиты. Пропал один человек, ваш сосед. Что за кошмар у вас там происходит?
Врач уже заканчивает перевязку, полосы эластичного бинта ложатся поверх плеча, неосторожное касание чужака обжигает кожу. Хель вздрагивает — не от боли, от узнавания, когда человек снимает маску. Ржавчина волос горит под холодным светом ламп, в стеклах очков играют блики. В голосе — звучит раздражение.
Женский голос призраком касается уха: помнишь? Хель помнит: события прошлой ночи и предыдущих дней. Украденное видение с душным опустевшим рынком и несчастным животным в клетке. На миг ему становится почти совестно: мысли настойчиво возвращаются к другому зверю. К тому, кто от боли не вздрогнет, а прижмется еще ближе. Влезет под самую кожу, в клетку оплетенных терновником ребер.
- Мой сосед пропал? - выдыхает Хель. Голос звучит хрипло, устало. Хтонику тяжело говорить. Он нетерпеливо садится, игнорируя взгляд врача. Культиста. Пальцы непроизвольно взлетают вверх, тянутся к шее, закрытой повязками. Находят фантомный болезненный след чужих зубов. Тело еще не успело избавиться от него. Скривить губы мешает подсохшая корка ссадин. В своем теле ростовщик обнаруживает новые очаги болезненности, не похожей на ожоги прикосновений, к которым он все еще не привык.
Но думает, что, пожалуй, мог бы.
— Офицер Ларсен ждёт вас снаружи. Вы как, можете говорить?
- Да, - кивает хтоник и морщится. Голова болит, но от предложенного пакета со льдом Хель отстраняется. Тщательно отводит взгляд, боясь, что незнакомец поймет: пациент его знает. Не в белой стерильности медицинских стен.
Он вспоминает — запоздало, мучительно. Не прошлую ночь, но все остальное: смерть под ногами, острие глаз незнакомца за дымной завесой. Дело, на которое он согласился, вложив ладонь в алую ткань перчатки. Еще ничего не закончено. Где Блауз? Хель хмурится и нетерпеливо трет переносицу пальцами. Голова болит. Чудовище — тоскует.
Я его найду, - обещает Хель.
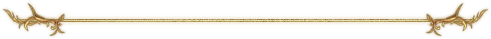

Солнце светится на небосклоне, заходит в зенит, утверждая: его напарник где-то. Отсыпается в другом месте, приводит в порядок расстроенные чувства. Курит в ванной, вытирает кровь с губ рукавом белоснежной рубашки. На его лице — след вчерашней ночи. Яркий кровоподтёк около угла рта до подбородка.
Не синяк. Укус. Который почти не болит, если его не касаться руками. Но как нарочно: касаться хочется постоянно.
В душе скребёт навязчивое ощущение нереальности происходящего. Глупости. Неправильности. Вильям закрывает глаза перед зеркалом, застилая веки ладонями. Он совершил ошибку. Эгоизм и тщеславие губят хуже, чем оставленная за собой веретеница трупов и свидетелей. Перед взором встаёт лицо ростовщика: то улыбающегося за столом ресторана, нежно щебечущего что-то о тишине и любимой птице, то его почти злорадный смех в последнюю ночь в отеле. В котором не было прежней невинной чистоты перезвона чашек — была скользящая в каждом жесте самоуверенность и изящность. Вильям знает: так звучит превосходство. Как бы не хотел Хель двигаться в зоне безопасности, безопасностью там и не пахло. Он обязан был его убить — он не смог. Должен был стереть память — пожалел. Себя, не его.
Зато здесь, в окружении четырёх новых стен на съёмной квартире, Вильям будто чувствует себя в изоляции от собственной смерти. Он знает: тут его не найдут, тут не побеспокоят. Зверь в груди разительно смеётся, он знает: Вильям сделал всё, чтобы его могли найти.
Зверь почувствует родное Чудовище за тысячу вёрст и заревёт так, что Чудовище его услышит. Как может быть иначе? Зверь преподнёс своему кумиру дар, и кумир его принял. Окровавленное сердце со следами зловещих зубов ещё бьётся под клеткой рёбер. Чужое, непогибшее — ешь мягкую плоть хоть каждый вечер. Вгрызайся зубами сколько захочется.
Чудовище узнает.
Чудовище услышит Зверя издалека.
Увидит, сколько в окружении нитей ведут к его самому преданному поклоннику. Вот тонкая нить от рыжеволосого врача. Ему на вид едва меньше тридцати. Он ругается на Хеля:
— Держите лёд, кому я говорю!
И холодный компресс прижимается к поверхности обработанной раны насильно. Если не знать о тайной жизни вне стен больницы, можно подумать, что доктор по-настоящему заботлив. Говорить мягко не любит, но поступает по совести:
— Разнесёт синячину на всю шею — будете потом объясняться окружающим за внешний вид. А кто окажется плохим? Разумеется, врач! Приехали — добровольное информированное согласие на манипуляцию не подписали, так ещё и упираемся! Так можно?
Его очки смешно сверкают в свете дня, рыжина волос отливает пламенем. Врач усмехается и прижимает компресс к Хелю собственной ладонью туже:
— Не смотрите на меня так. Разумеется, не подписали, потому что прибыли в больницу без сознания. Но это не повод! Лёд к шее, потом в регистратуру.
«Первая нить» к поклоннику уходит из кабинета, хлопает входная дверь. И приходит «вторая» — она может что-то знать о местных адептах культах Чернобога. Фигаро Ларсен садится перед Хелем с потрёпанным блокнотом в руках. Он косо и недружелюбно смотрит. Первый день их пребывания в отеле — погибшая девушка. Второй — разбитое лицо и пропавший человек.
Из груди доносится тяжёлый выдох, по кабинету разливается тишина: забинтованный как на карнавал Хель не выглядит опасным. Более того: в памяти ещё свежи следы его недавнего обрывка из жизни. Фигаро отводит взгляд. Ему стыдно не спрашивать — вспоминать о слишком личном моменте.
О слишком интимном касании к руке и любовном объятии. Так чужих не обнимают.
— Понимаете, — начинает Фигаро речь, не чадя подозреваемого — сразу в лоб. — Вы приезжаете — и ровно с этого дня в отеле начинают происходить ужасы. Я видел вас, когда зашёл…случайно, разумеется! Я не хотел! Чужая личная жизнь — не моё дело. Разумеется, когда всё происходит в рамках закона. И…вы идеально подходите под мотив ревности. Сначала убиваете свою соседку, очаровательно-красивую девушку, потом дерётесь со своим любовником и убиваете его на почве той же ревности. Тело прячете. Мы его найдём — вопрос времени. Если вы так психически больны, может, вам нужна помощь? Сотрудничайте со следствием, и мы поможем вам.
Фигаро не столь умён, как производит впечатление его внешний вид. Пытается запугать — выходит одна комедия.
— Расскажите всё, что знаете.
Нас недостаточно распять,
В нас нужно выстрелить раз пять -
Чтоб души грязные слились в одну опять
И мы пошли по преисподней погулять

Холод, прижатый к шее, притупляет боль. Хель с неохотой придерживает пакет со льдом, потому что врач не может знать, что пациент с восторгом рассматривал бы гематому. В чужом голосе забота мешается с раздражением, а ростовщик думает о том, как выглядит след, оставленный им самим на чужом теле. В этом есть что-то нездоровое, больное, но Хель снова и снова вспоминает привкус крови, наполнившей рот. И тяжесть чужого тела — так близко, что кожей можно было почувствовать чужое сердцебиение.
Ему этого не хватает. Тому, что живет в клетке ребер — тоже. Впервые между монстром и его хозяином такая идиллия.
- Спасибо, - отзывается ростовщик, сильнее прижимая пакет со льдом к перевязанной шее. Он знает: любые следы сойдут быстрее, чем если бы он действительно был человеком. Боль уже слаба настолько, что не туманит рассудок. Но недоступность чужого тепла колет оплетом терновника.
Хель выдыхает. Оглядывается в поисках трости — пальцы жаждут коснуться знакомой гладкости металла. Возможно, ее забрали жандармы. Возможно, она так и осталась на полу чужого номера. Ростовщик дотянется до нее сквозь пространство — так, как ему хотелось бы дотянуться до другого. Но сейчас нужно думать. Хорошо, что Хель умеет это лучше всего.
Хлопает входная дверь, входит офицер. Хель помни его и не чувствует ни капли угрозы. Наоборот, кажется, сам хтоник выглядит более опасным — даже обмотанный бинтами, будто неуклюжая пародия на мумию. Ростовщик замирает под чужим взглядом, ждет допроса. Он понимает: все выглядит подозрительно. И делает медленный вдох, чувствуя, как протестующе грудная клетка отзывается болью. Чудовище ворчит под ребрами.
- Дайте мне минуту, - просит Хель и самую малость ведет рукой, отводя от шеи пакет с уже начинающим таять льдом. Ростовщик под тяжелым внимательным взглядом жандарма выспрашивает дорогу до уборной — и исчезает за дверью. С щелчком замка хтоник чувствует, как разливается по телу нетерпение. Он торопливо отводит взгляд от зеркала, опускает глаза, но успевает заметить свою нелепую фигуру — полосы эластичных бинтов поверх изрезанной чернилами кожи. Жилета и плаща нет — Хель не знает, куда именно они могли деться. Он открывает кран, горбится над раковиной, впиваясь взглядом в рыжий след вокруг стока. Дыхание срывается, наконец подчиняясь колкому страху.
Жив. Хель роняет пакет со льдом, нетерпеливо сует руки под воду. Проводит влажными ладонями по лицу. Жив. Это кажется не чудом, а злой насмешкой. Тот, кто должен был бежать от своей гибели, сожалеет, что она покинула его. Нелепо. Смешно. Полный дурак, - шепчет знакомый голос, и Хель почти чувствует прикосновение чужих губ. Он резко и рвано дышит, жмурит веки. Успокаивает ворчащего монстра под ребрами, обещает, что найдет того, кто им нужен. Нужен — болезненно, глупо, до выламывающей судороги.
Ростовщик призывает все свое мужество, чтобы заглянуть в зеркало — он знает, что увидит. Всегда: лицо, которое он не может назвать своим. Неправильные черты, сейчас тронутые акварелью свежих синяков и коркой подсохших ссадин. И взгляд Чудовища — шальной, пьяный. Хель дарит ему кривую ухмылку — и чудовище скалится в ответ. Смотри, что он с нами сделал, - любовно шепчет тварь из подреберья. Смотри! Пальцы тянутся к шее, к повязке поверх чужого клейма. Хтоник надавливает пальцами на повязку и тихо шипит от боли. Вспоминает, как зубы Блауза вгрызались в кожу. Мучительно. Желанно.
Хель знает: на подобное смелости хватает один раз, и он изучает незнакомца в зеркале. Незнакомец знает все его страхи, знает, почему так тяжело смотреть в отражение, не разбитое трещинами. Хтоник боится, что собственное лицо ему не принадлежит, что он собрал себя из чужих черт так же, как собственное имя сложил из вырезанных в граните букв. Боится, что из всего, что ему по-настоящему принадлежит — только тварь, выламывающая прутья ребер.
Я защищал нас, - напоминает чудовище, - а ты посадил меня в клетку. Ухмылка в зеркале становится горькой, пальцы впиваются в овитое эластичным бинтом горло, ведут вниз, ощутимо царапая. Хель свободной рукой впивается в хрупкий край раковины — его сил никогда не будет достаточно, чтобы оставить на белоснежной керамике даже царапину. Лап чудовища хватит, чтобы разбить здесь все.
Найди его.
Найду.
Обещание впивается в шею — туда, где так не хватает удавки амулета. Хель выдыхает. Монстр выдыхает тоже. Мы найдем, - обещают из клетки ребер, из шальных серебристых глаз, кажущихся чужими. Страшное понимание: такая цель дорогого стоит. Крови на руках? Гуманных методов. Если получится.
Хель возвращается в кабинет под тем же тяжелым взглядом Ларсена. Офицер садится напротив — в обтянутое потрепанной белой кожей кресло. Хель послушно рассказывает, повторяя то, что уже говорил раньше. Под потолком слабо потрескивает лампа.
- То, что случилось вчера… - его голос сбивается едва заметно. Хель принимает решение импульсивно, на миг отказавшись от привычной осторожности. Но дрожь в голосе легко списать на волнение. - Я видел людей в темной одежде. Вроде балахонов. Они как-то вошли в номер. Я… простите, офицер, я не могу сказать, как именно они вошли. Возможно, я не закрыл дверь. Мы с моим другом, - голос срывается вновь, но уже осознанно, Хель чувствует поток вдохновения, - понимаете, мы… были заняты. И заметили тех людей слишком поздно. Я помню лишь несколько слов… Они говорили что-то о жертвоприношении и о… Чернобоге? Не уверен, что правильно расслышал. Я не боец, - неуверенным ломким жестом хтоник обводит собственную грудную клетку, - к тому же, меня застали врасплох. Не видел, что случилось с Вильямом. Как вы считаете, то, что говорили те люди... что-то про жертвоприношение, про какой-то ритуал... я не понимаю. Простите.
Он закрывает глаза, спрятав лицо в ладони. Когда он разыгрывал спектакль перед чужаком в баре, было весело. Сейчас только тревожно. Но... Хель помнит, как часто над ним насмехался Корвус: тебя и тростинкой зашибешь! Немощный!
И хтоник горбится, подчеркивая и без того заметную кривизну плеч, сжимаясь под чужим взглядом так, чтобы показать: нет никакой угрозы только напуганный человек, который не знает, что происходит. Весь в синяках и ссадинах. Кто-то, потерявший близкого человека. Чудовище ворчит ободряюще и не ломает прутья - оно знает: Хель выпустит его сам, когда придет время.
|
|
|



Пятилетка бежит по двору, трогая за плечо старшего брата. Показывает наколотого на иглу сверчка: «Смотри, какой красивый!»
Фигаро Ларсен нервно поджимает нижнюю губу. Сейчас он тоже кое-кого наколет.
— Вас нашли на полу его номера. Вы говорите, что вы вчера вдвоём…были заняты? — голос полицейского дрожит от гнева. — Подозреваю, что не судоку решали.
Он водит правой бровью вверх, обвиняя. В его лице читается простое, одно единственное обличающее слово.
«Содомит».
— И вот к вам, увлечённым друг другом, в номер вламываются адепты Культа Чернобога. После полуночи, когда ваш номер единственно…шумный? Действительно, почему нет?
Карие глаза Фигаро смотрят на Хеля в упор. На тонкие ключицы, кровоподтёки на коже лица и шеи, эластичные бинты, пропитанные следами крови. Внешне Хель хочет казаться хрупким и будто обличает несовершенное тело, сгибая плечи. Фигаро лишь рассматривает фигуру с опущенной головой: она не внушает доверия.
Внешность Хеля для доверия всегда слишком…экзотичная.
— Что могли забыть адепты Культы Чернобога у полицейского при исполнении? Допустим, — машет руками Ларсен. — Их не смутили стоны или вы всё-таки засунули в рот своему партнёру кляп, чтобы он хотя бы изредка умел молчать. Они ворвались. Зачем?! Скажите мне, зачем?
Вены вздымаются на покрасневших руках, и белки глаз Фигаро становятся красными. Он и сам становится красным, и ему показательно тесно в костюме. Фигаро расстёгивает верхние пуговицы формы, машет в лицо страницами ежедневника: отёчная шея вываливается за поверхность воротника. Ручка нервно стучит по столу: клацанье колпачка «включить-выключить» действует на нервы.
— Они могут выбрать кучу жертв из этого дурацкого отеля. Вдову на первом этаже, пьяного музыканта. Адекватную парочку со второго этажа — студентов строительного. Но выбирают, разумеется, человека с табельным оружием и навыками боя. И даже не прислушиваются к тому, что происходит в номере. Как всё просто! Какие разборчивые культисты!
Кровь закипает в жилах. Фигаро отводит взгляд от Хеля, черкая в своём блокноте озвученные данные. Но ему мало.
Мало остановиться.
— А дальше? — насмешливо звучит его издевательский голос. — Вы прерываете решение судоку? Я так понимаю, что вы вступаете с сомнительными личностями в диалог, и они вываливают на духу: «Мы адепты запрещённого культа, разыскиваемся практически на всех планетах Аркхейма и пришли, чтобы найти цель для жертвоприношения. О, вас двое! Ничего, мы возьмём только одного".
Фигаро нажёвывает щеку изнутри. Перед Хелем уже далеко не тот спокойный жандарм, которого он видел раньше. Стандартные вопросы — простые ответы.
Но Хель сам ступает на дорожку лжи. И некто хватает его так ловко, как детская рука хватает сверчка с дороги.
— И Вильям Блауз, имея огнестрел при себе, проходящий ежегодную аккредитацию на профпригодность, разумеется, оказывается избит и уволочен. А вас они оставляют. Зачем? Просто так. Не убивают. Пинают и оставляют на полу, рассказав и о себе, и о своих планах. Так, да? Им же жалко свидетеля. Живой же человек.
И Ларсен вгрызается в лицо Хеля так, как голодная собака вгрызается в кинутое за забор мясо.
— Вас видели, как вы выходили ночью с кем-то на улицу. Соседи сказали о звуках борьбы из номера. Но, разумеется…администрация никого входящего в отель из посторонних не видела: ни одного человека, ни группу переодетых культистов. Все свои. Но об этом я уже, разумеется, спрашивать вас не буду.
Фигаро поднимается с кресла и прячет блокнот в недрах старой сумки. Достаёт наручники и ключи:
— Я вынужден прервать этот лживый бредовый рассказ. Я арестовываюсь вас, Хель, и провожу в участок. Там вы пробудете до конца расследования и судебного разбирательства. Вы сами выбрали путь лжи. Вы сами виноваты.
Ловушка захлопывается с щелчком. Причем Хеля в нее никто не загонял: хтоник зашел внутрь сам, прикрыл за собой дверь и… подумав, запер ее. Чтобы наверняка. Карие глаза офицера впиваются в разукрашенную акварелью синяков тело так, что не остается сомнений: не верит ни одному слову. Ну, может, почти ни одному.
Офицер — не вспыхнувшая внезапной страстью девица, которой все равно, что наплетет симпатичный незнакомец. Жандарм впивается в чужую ложь с готовностью бульдога, и Хелю остается только сжиматься уже совершенно искренне, сокрушаясь, что… попался так нелепо. Ему не хватает Вильяма в самом банальном практичном плане: ментальный маг сейчас оказался бы очень кстати.
Если бы у твари под ребрами имелось чувство юмора, она бы смеялась в голос. А так может лишь довольно потягиваться, напоминая: у нас все еще есть когти. Хель впивается взглядом в ответ, наблюдает, как выступает пот на коже пожилого мужчины, как румяное лицо багровеет еще сильнее. Жандарму от возмущения тяжело дышать, он выплевывает слова с усилием, и Хель чувствует себя нашкодившим мальчишкой, пойманным за воровством в буфете.
Ты очень плохой лжец, - говорит себе Хель. Просто ужасный, - соглашается монстр под ребрами. Они оба видели, как выглядят хорошие лжецы. Хтоник смог обмануть человека в баре — потому что тот не ожидал лицедейства, а выбранный образ лег удачно. Но обмануть обычного уставшего от жары полицейского не удается. Хелю хочется смеяться. Как ребенку, который еще не умеет плакать над разбитой коленкой.
Офицер тянется за наручниками, чудовище с любопытством царапает прутья ребер: что будем делать? Хель в последний раз оглядывает тучную фигуру жандарма — он похож на огромного ворчащего индюка, - и поднимается на ноги.
- Простите, офицер, - искренне извиняется он, призывая магию. Ее ничто не ограничивает, и следующий шаг Хель делает во двор перед питейным заведением: не так много мест в городе, которые доступны ростовщику. Знакомая улочка при свете дня выглядит иначе: душный воздух забивается в горло пылью, жара оседает на свежих повязках. Хель пытается представить, что происходит сейчас в больнице, но не может: он плохо понимает, как организована работа полиции. Одна из причин, почему он обычно воздерживается от работы с людьми.
Из магии Хель сплетает себе жилет и плащ — такие же, как были. Он верен своим привычкам, браслеты оплетают запястья наручами брони. Молодец, шепчет подсознание почему-то голосом Корвуса, - тощий носатый парень в татуировках, повязках и шмотках старьевщика. Такому затеряться в толпе — проще простого! Поверх привычной одежды ложится темная ткань балахона, похожего на те, что носили культисты в подсмотренном воспоминании. Хель не уверен, что этой маскировки достаточно — особенно, когда пальцы сжимаются на рукояти призванной трости.
Что делать дальше?
Можно вернуться в номер. Память заботливо подсовывает видения: тяжесть чужого тела, тепло дыхания на шее, боль рвущейся под оскалом плоти. Хель отгоняет картину под недовольный рокот твари под ребрами. Он знает: в номере Вильям не оставил следов. Чувствует это всей кожей. Как и то, что там его ждет полиция — неизвестно где выученный урок: преступник всегда возвращается на место преступления. В отель Хелю нельзя. Он вспоминает, как кинул на стол красные перчатки Блауза — яркое пятно на деревянной поверхности, словно след крови на пальцах, прижимающихся к щеке. Забрал ли их Вильям?
Хтоник выпрямляется и думает: еще есть тот парень, тот врач с внимательным взглядом за стеклами очков. С ржавчиной в волосах. Незнакомец — как к нему подступиться? Хель взвешивает трость в руке, зная: она послушно примет нужную форму, острие не подведет… но страшно. Путь насилия претит Хелю на самом базовом уровне.
Конечно, - подсознание снова говорит голосом Корвуса, - путь насилия — это не наш вариант. Ты просто подойдешь к культисту, мило ему улыбнешься и спросишь: не подскажете, как пройти к месту жертвоприношения? Ах да, я тут потерял друга, с которым мы собирались сорвать вам ритуал — вы его не видели? Бледный такой брюнет с родинкой и кровоподтеком в форме моего прикуса. Скажите, если встретите!
Хель вздыхает и угрюмо падает на скамейку. Сгорбленная фигура в балахоне и с тростью — самое непримечательное зрелище на свете. «Смотри, назгул!» - смеется какой-то подросток, кивнув головой. «Назгул» понимает, что отыскать его — раз плюнуть, вне зависимости от того, натягиваешь на голову капюшон или нет. Среди душной Астры он выделяется так же, как легко терялся в собственной лавке. Это Блауз мог при желании слиться с толпой — Хель в ней заметен каждым своим жестом. Кривой фигурой, бледным лицом с неправильными чертами. Перевязью бинтов под покрывалом темной ткани. Под ней еще и жарко — бинты мокнут от пота, укус на шее болит так, как Хелю и не мечталось.
Нужен план, - решает ростовщик. То, что формируется в его голове, не внушает доверию — ни самому Хелю, ни его подсознанию с голосом Корвуса. Ни даже твари в подреберье. Но на другой вариант хтонику не хватает фантазии: он направляется к госпиталю, который только-только покинул.
«Назгулу» удается не заблудиться в лабиринте улиц — сперва он добирается до отеля, не приближаясь к его громаде, после — до здания больницы. Трехэтажный бетонный остов уродливой лягушкой распластан среди городского пейзажа — Хель ступает на территорию двора за коваными решетками, тщетно пытаясь укрыться в тени. Он не удивляется, когда замечает обращенные взгляды — охранников или персонала, хтоник не уверен. Поток магии выносит его на залитую солнцем крышу: бетон прогрет так, что жар чувствуется даже через сандалии. Усталость уже напоминает о себе привкусом железа во рту, утомленные нагрузкой и жарой мышцы ноют.
Хель ждет, притаившись за скатом крыши, когда нужный человек покинет здание госпиталя. Внутри — холодные лабиринты стерильных коридоров. Во дворе: душный воздух Астры, редкие прохожие, ржавчина старых зданий.
Наконец культист появляется — тощая фигура молодого человека, рыжие волосы в беспорядке. Блики в стеклах очков на тонкой переносице. Хель замечает жертву… и едва не срывается с крыши. Не жертву, - напоминает он себе. Это слово жжет в горле. Он все еще надеется удержаться на грани гуманных методов.
Когда заметная фигура в балахоне приближается к отработавшему рабочую смену доктору… осечку дает не удача. Потому что никакая удача не перекроет глупость прямого преследования — Хеля замечают снова, культист оборачивается, пытаясь выставить руки, нелепо заваливаясь в сторону. Должно быть, усталость, - почти сочувственно думает Хель, обрушивая металлическое тело трости на чужую голову.
Гуманные методы, - недовольно ворчит голос Блауза в голове, пока хтоник перехватывает хрупкую бесчувственную тушку под плечи и утаскивает в портал. В кои-то веки местным газетам будет, что обсудить: события валятся на городок как из рога изобилия.
Распоротые мусорные пакеты в переулке блестят маслянистой влагой. Хель задыхается, усталость ноет под ребрами, руки уже дрожат. Бесчувственное тело неуклюже клонится к стене, пока хтоник обращается к своей магии снова — на этот раз чтобы материализовать веревки и связать своего пленника.
А после — устало рухнуть напротив, прислониться спиной к ржавому кирпичу, нервно стиснуть трость в пальцах. План сыгран на грани неуклюжей театральной постановки — череда счастливых случайностей? Хель позволяет себе запрокинуть голову, находит боль раны на шее и прижимает к ней ладонь.
Сначала мы просто поговорим, - предупреждает он монстра под ребрами и чувствует, как скребутся чужие когти. Чудовище знает: если разговор не окончится успехом, придет уже его очередь действовать. Хель принимает это решение с тяжестью положенной на плаху головы: он понял, что из-за Блауза сможет запачкать руки еще тогда, когда стихи резали темноту комнаты.
Отредактировано Хель (2022-07-10 00:55:43)


Часы показывают восемнадцать ноль-ноль. Вильям грустно смотрит на квадратный циферблат электронного будильника и понимает: не то. Цифры смотрят на него с равнодушием машины, мерцают на серой поверхности унылым чёрным контуром. Ушам не хватает приятного тиканья стрелок. Память всё время возвращается к мерному перестуку деревянных часов в отеле, приятному и тихому звуку. Когда между бывшими союзниками воцарялась тишина, часы будто говорили: «Мы тут». Ненавязчиво, осторожно. Ночью они, казалось, звучали громче, чем днём. Или это была ошибка губительного самовнушения.
Правда была в том, что одиночество и тишина претили всему существу, и Вильям отчётливо нуждался хоть в каком-то источнике шума. Будь то дыхание и голос другого человека, или играющий музыкальный чат телевизора. Даже во в временном жилище ненавязчивая музыка хит-парадов безразборно разделяла пространство и дарила слуху приятное ощущение того, что кто-то с ним присутствует.
Вильям любил себя обманывать.
За половину дня, проведённых в этом месте, он отчётливо понял: ему тут не нравится. Память скребущими кошками тосковала по единственному человеку, оставленному на дороге как пакет ненужного хлама, и в сердце зияла дыра: не хватало его присутствия. Где Хель сейчас? Обрабатывает раны в медицинском пункте? Или уже вернулся в Тульпу и любовно прикасается к перьям своего питомца, как когда-то касался чужого плеча? Пытается стереть воспоминания двух прошедших дней или взращивает их как заботливо посаженный цветок?
«Не думать» — запрещает себе голос разума. Тот, что не любит царапаться о болезненные воспоминания.
Но не думать не получается.
Даже кружка чая — не белая уточнённая керамика на первом этаже ресторана «Крокс» — а обычная кружка заставляет помнить:
— А когда я увидел, что тебе этот череп понравился, — приятно щекочет слух голос ростовщика, — я подумал: должно быть, истинная ценность некоторых вещей в том, что их кто-то любит.
Вильям улыбается и вспоминает: его собеседник не прикоснулся к еде, но глаза горели таким восторгом приключений, что он почувствовал: захотел этот череп ещё сильнее! Пальцы дотронулись до ручек кружки как когда-то касались полированной варёной кости. «Жаль» — осколками сознания звучал в груди собственный голос. У него духу не хватит явиться хоть ещё раз в лавку редкостей Тульпы. А он бы, возможно, любил этот череп не меньше, чем любил его прежний хозяин.
— Мне нравится тишина, — тихо признается Хель в болезненных отголосках прошлого.
Вильям грустно улыбается и отвечает то, что не смог ответить тогда:
— А мне нет.
Горячий напиток касается губ и обжигает ещё свежую рану. Вильям хмурится и поднимает глаза: его окно выходит на соседнюю стену. В ней прорезь, аккурат напротив. Тучный мужчина в растянутой майке с жёлтым пятном на груди подходит к холодильнику и открывает дверцу. Четвёртый раз за день. Вильям энергично салютует ему ладонью, обтянутой красной перчаткой, в приветствие. Незнакомец присасывается к горлу пивной бутылки и показывает ему средний палец.
— Романтика городских многоэтажек, — блаженно понимает Вильям и вновь делает глоток.
Горячий чай обжигает не больнее, чем чужие губы зубы.
Руки сами тянутся к сигаретам и зажигалке. Ноги несут на балкончик «для курящих».
Воздух Астры даже вечером спёрт и наполнен запахом магмы. Вильям убирает с лица прилипшие ко лбу волосы и опирается спиной о тёплую грань остывающей кирпичной стены. Сигаретный дым дарит успокоение. Руки почти перестают дрожать. Глаза не находят ничего прекрасного в простирающейся перед ними картине: три стены в виде городского тупика, контейнеры с мусором и валяющимися на асфальте шприцами. Пространство разрывает хлопок портальной магии. Вильям замирает, вжавшись в стену видимым атрибутом мебели. Старая легионерская привычка говорит: не вмешиваться, пока не оценишь ситуацию.
Переместившихся двое. Вильям не может разобрать первую фигуру, стоящую к нему спиной: на ней длинная мантия почти до пяток, голову закрывает капюшон. Вторая безвольной массой опирается спиной о противоположную стену. Эти рыжие кудряшки и круглые очки, свалившиеся набекрень, Вильям узнаёт мгновенно.
Он запомнил каждую фигуру из воспоминания Женевы. Будто сам знал их минимум сто лет.
Взгляд вновь возвращается к незнакомцу, стоящему спиной. И сердце бешено заходится в груди. Зверь первый узнаёт знакомые оковы чужой клетки.
— Обернись, — бесслышно шепчет он существу, находящему в заперти чужих рёбер.
— Обернись, — повторяет, чтобы Чудовище его слышало.
— ОБЕРНИСЬ! — срывается на крик.
Вильям касается пальцами основания грудины. Больно. Вильям не верит в существование Зверя, но Зверь верит в существование его. И незримо живёт в груди, вырываясь наружу, к собрату. Направляет чужие глаза на зияющие пятки ног. Знакомые сандалии, истоптанные городской пылью. Конец трости.
— Хель? — вслух спрашивает Вильям, но человек, находящийся двумя этажами ниже вряд ли его услышит.
Вильям тушит сигарету о перекладину балкона. Фигура мужчины в растянутой майке вновь возвращается за пивом и скрывается в темноте комнат напротив. Вильям перекидывается через перила балкона и прыгает до пожарной лестницы.
В глазах приходящего в себя врача боль удара от набалдашника трости. Он поднимает взгляд на фигуру ростовщика, возвышающегося над ним мрачным образом из сказок, и из его уст вырывается единственный вопрос:
— За что?
Голова непримиримо раскалывается. Руки оказываются связаны мёртвой хваткой. Вильям, мягко соскакивающий с последнего уровня пожарной лестницы, может только восхищённо выдохнуть: материализовать верёвки из воздуха. Он так не умеет.
Глаза врача впиваются в его фигуру как в нечто спасительное. Вильям приближается к двоим с бесслышностью умеющего красться. И в последний момент совершает крутой зигзаг в сторону того, кто всё это время стоял, не оборачиваясь.
В голосе зреют привычные нотки любимой кокетливой игры. Вильям прислоняется к спине в балахоне плотную, левая ладонь сдёргивает капюшон со знакомых густых волос одним рывком. И нежный голос впивается в чужое ухо:
— Говоришь, «гуманные методы»?
Мы друг для друга давно стали как зеркала:
Видеть тебя и всё чаще себя узнавать.
Нитью незримой нас намертво сшила игла...

Вечерний воздух не таит в себе ни малейшей прохлады: духота застревает в горле, липнет к влажной коже под тяжелыми тряпками. Хель выдыхает, с тяжестью опирается на трость. Пока пленник без сознания, можно позволить себе каплю слабости: можно согнуться, перенося весь вес на металлическую опору трости, закрыть глаза. Стиснуть боль на шее свободной ладонью. Пальцы дрожат, дрожь пробегает по позвоночнику. Как только пленник шевельнется — ростовщик выпрямится, но сейчас… он прижимает пальцы к шее с остервенением, хотя укус болит постоянно. Но ему мало.
Рыжеволосый паренек смотрит на него со страхом, какого он не ожидал встретить в чужом взгляде. Пленник его боится. Его! Хелю становится не по себе, он не привык иметь дело со страхом. Это он — тот, кто боится. Тот, кто не умеет причинять боль. Тот, кто старается этого не делать. А сейчас в глазах за стеклами очков плещется почти по-детски открытый ужас. Ростовщику становится совестно: человека, который перевязал его раны, сам он огрел по голове тростью. Чудовище ворчит с удовлетворением: оно не понимает, о чем тут переживать. Тем более парнишка жив. Пока жив, - издевается тварь из подреберья, заставляя хозяина содрогнуться.
— За что? - вопрошает врач.
Он устал после смены. У него дрожат руки и голос, он выглядит измученным — тонкая нить крови тянется от ссадины на лбу. Если не приложить лед, синяк скоро обезобразит пленника. Хель отгоняет не к месту вспыхнувшую совестливость. Он не знает, что делать. Он не умеет вести допрос. Он…
По телу ростовщика проходит судорога — слабая, лишь отголосок реальной пытки. Тварь под ребрами беснуется, впиваясь в решетку ребер. В чудовище нет ни жалости, ни разума — только слепое рвение к собрату. Вдоль позвоночника тянется след мурашек, пальцы сводит от напряжения…
И капюшон вдруг срывают с головы «назгула». Хель вздрагивает, когда знакомый, желанный, необходимый голос рассыпается по коже чужим дыханием.
- Говоришь, «гуманные методы»?
У Хеля темнеет в глазах — в грудине боль такая, что кажется: чужие зубы впились в сердце. Чудовище рвется голодной безумной радостью: мое. Ростовщик оборачивается, качнувшись, находит знакомое лицо…
Смеющийся Вильям врывается в его лавку — вихрем энергии, потревожив колокольчик над дверью, в потоке прорвавшегося с улицы света. Неправильный, ломкий среди привычного уюта лавки. Он — как острый обломок кости, впивающийся в ладонь. Цепкие пальцы, обтянутые красным, обхватываю ладонь ростовщику, сжимают — крепко, уверенно. И прикосновение обжигает через ткань. Обжигает сильнее любого случайного столкновения в толпе. Взгляд режет кожу.
И Хель одергивает ладонь, пытается сдержать бешеное сердце, еще не осознавая, как Чудовище разворачивается под ребрами, просыпается, уже почуяв: мое.
Ростовщик только видит омут знакомых глаз, желанных, завораживающих. И его собственный взгляд становится шальным. Тварь в подреберье рвется не на волю — всего лишь дотянуться сквозь решетку. Впивается в угол чужого плеча пальцами хозяина, счастье обретения — пьяное, больное. Хель скалится и за себя, и за своего монстра.
- Вильям, - выдыхает он. С нежностью, с облегчением, с болью, дрожащей в хриплом шелесте голоса. Забывает обо всем на целое мгновение: о том, что пленник слабо бьется в надежных путах, о мерзости распотрошенных мусорных пакетов, о том, что от усталости подкашиваются ноги.
Мое, - шепчет тварь в грудной клетке, не давая отстраниться.
Чужие пальцы касаются черепа. Безделушка. Взгляд ростовщика столько раз скользит мимо забытой на прилавке вещи, не находя в ней ничего интересного. Ни в заботливо полированной кости, ни в блеске нефритовых глаз. Он знал: в этом черепе нет ничего интересного.
Но чужая ладонь прикасается к бесполезному предмету — будто к святыне. Любовно обводит скулы, ласкает скол носовой кости. Во взгляде чужака горит восхищение, любовь. Хель видит такое впервые. Он чувствует, знает: череп уже не принадлежит его лавке. Глупое шальное чувство вспыхивает под ребрами: кажется, будто мертвая кость наслаждается этим касанием.
Он не знает, что позже будет вспоминать о движениях чужих рук в перчатках с тоской и отчаянием смертника, желая такой же ласки — вдоль собственных скул.
Он толкает Вильяма к стене, вжимая в ржавчину кирпича. Почти не удерживая — тот сможет оттолкнуть, если захочет. Только разжать пальцы на плече напарника оказывается куда труднее, чем отвести взгляд от дурманящих омутов глаз.
- Где ты был? - выдыхает Хель.
Возможный упрек не срывается с губ, но колкостью несвершенных укусов оседает на коже. Хель приближает свое лицо к чужому — едва-едва. Взгляд скользит к истерзанным губам Блауза. Ростовщик не может поверить, осознать, что способен такое сотворить с другим человеком: следы его зубов на чужой коже, окровавленные ссадины губ. На коже ростовщика неправильным отражением — следы чужих ударов.
Ты меня ранил, - говорит взгляд хтоника, имея в виду совсем не акварель гематом на коже.
Я тебя нашел, - шепчет Чудовище. Пальцами хозяина тянется к желанной добыче, обводит контур кровоподтека. Прикосновение обжигает — знакомо, приятно. Пальцы чуть надавливают — чтобы стало больно. Мое, - повторяет тварь под ребрами перед тем, как успокоиться.
Хель знает: он дурак. Было бы лучше, наверное, если бы Блауз его пристрелил, но сейчас уже поздно для них обоих. Ростовщик касается чужих губ своими - осторожно, чувствуя привкус сигаретного дыма. Тварь под ребрами призывает кусаться и терзать. Он сам прижимается с нежностью. По коже ползет неглубокая сеть трещин, пересекая и узор чернил на коже, и следы синяков. Прикасаться больно, так и хочется отстраниться. И не хочется — тоже.
Ростовщик не умеет целовать. А еще помнит: не время, не место. Но Чудовищу наплевать. Оно рвется из подреберья, касается чужого лица руками хозяина. Ему плевать на трещины, пересекающие бледную кожу.
Мое — дыхание обжигает чужие губы. Кончик языка мимолетно и невесомо слизывает выступившую в уголке губ кровь.
Ростовщик роняет голову на чужое плечо. Плевать, думает он. Ему больно и страшно, руки дрожат. Кажется: последние часы были сложнее всех других в его жизни. Он понимает вдруг: ему не хватало присутствия Блауза, раскалывающего тишину голоса, энергичных жестов. Не хватало этой боли от прикосновений кожи к коже. Это глупо, бессмысленно и опаснее любой смерти.
Он тихо смеется, прижав нос к изгибу чужой шеи. Дурак, - думает он. Какой же дурак. И ему все равно. За весь этот бесконечно длинный день он ни разу не подумал о том, чтобы просто вернуться домой. Не представил даже, что оставит душный спертый воздух Астры, чтобы вдохнуть знакомый уют родной лавки, зарыться пальцами в птичьи перья.
Голос Вильяма нарушает тишину, перебивает мерный стук часов. Стихи впиваются в кожу так, как лезвие не смогло бы никогда. И Хель горбится, прячет лицо в ладонях. Он не знает, что сказать. Он не понимает, что чувствует: сердце колотится груди так, что кажется, вот-вот проделает дыру в кости. Дрожь ползет по спине, первый тонкий излом протягивается от уголка губ — там, где позже чужой удар оставит ссадину.
Хелю хочется обернуться. Преодолеть расстояние между столом и диваном, сесть к Блаузу, прижимающему к животу подушку. Ростовщика тянет к нему будто канатом, так что удерживаться почти невозможно. Нельзя, думает он, этот человек пугает его. Этот человек может стать его смертью.
Рука от плеча до запястья немеет — там, где касалось чужое тело. Больно… и эта боль горит, как оставленное кем-то клеймо. Стихи вонзаются в разум, в тело, в сердце. От них никуда не деться. Хель сжимается, молясь об одном: не сдвинуться.
А потом чужой голос нарушает тишину снова:
- Я все испортил.
И Хель знает: это так. Напарник сломал что-то в нем. Хотя ростовщик пребывал в уверенности: его не сломает ничто. Но трещина протягивается по лицу. Первая. Тяжестью несвершившегося поцелуя, от которого хтоник удержался.
Ты меня сломал, — дыхание касается чужой шеи.
Я сломал тебя тоже,- пальцы прощально касаются синяка на коже Блауза перед тем, как скользнуть к его плечу. Не отпуская. Даже зная, что Вильям ненавидит ловушки и клетки. Чудовище льнет к подставленному боку собрата, вгрызаясь когтями в податливое нутро, клыками — в мягкость чужой шкуры. Ласково. Больно.
Мое.
|
|
|


Макушка чувствует удар. Больно? Ни капли. Вильям опускает лицо вниз и кривит отточенную улыбку: от него не осталось ни капли слабости вчерашней ночи, ни намёка на скользящие страх и неуверенность. Пару минут на то, чтобы обдумать действия, наблюдая со стороны старого балкона, и он может сказать, что готов к любому повороту событий. С привычной гордостью непобедимого хищника, с привычной элегантностью, присущей сильному телу и упрямому разуму.
— Привет, — шепчет его голос так ласково, так ядовито, что в этом угадывается прежняя маска из-под полуприкрытых век.
Плечи замирают под натиском обманчиво слабых рук. Взгляд скользит по исчерченному ссадинами лицу напротив: вот тёмные волосы от пота прилипают к вискам, вот на скуле расцветает бордовый кровоподтёк от пистолета, а шея…шея просто походит на решето после неспокойной ночи: пять любовно слившихся засосов воедино. И взгляд: острый, цепкий, не такой, как видел Вильям, когда они только познакомились.
Хель… Ни капли прежней робости. Ни мгновения осторожности от касания.
Очаровательно.
— Ужасно выглядишь, — с издёвкой цедит Вильям и смотрит в глаза впритык. Склоняет голову как кокетливая девица. — Жмёшь меня к стенке? Кажется, два дня назад ты мне руку боялся пожать.
И он колет Хеля злобным прикосновением в живот: пальцы сжимаются на мантии так, как когда-то другие руки скреблись в судорогах ночи, порываясь проникнуть в чужое тело. Ногтями, взрывая эпителий кожи как волны волнорезом, не щадя тело, не щадя разум. Вильям сопротивляется: руки Хеля могут чувствовать напряжение, с которым его хотят отбросить назад. Упор, который оказывают в худощавый пресс.
Но кожа вздрагивает, когда её касаются. Хель не перестаёт удивлять: в нём от хищника становится больше, чем от монстра, которые живёт в клетке рёбер. И Вильям отклоняет голову вбок: чужие пальцы ведут вдоль границы гематомы с нежностью, это ощущение приятное, и оно заставляет расслабиться. Прикрыть глаза, прильнуть к чужим шершавым пальцам во временном забвении. Тело потрясающе отзывчиво на чужую ласку: когда она не выглядит как попытка нападать.
А после — эти пальцы приносят боль. Надавливают на больное место с силой. Заставляют Вильяма вздрогнуть и посмотреть на Хеля с вызовом.
«Что ты сделал?»
«Ты знаешь, ЧТО ты сделал?»
Его бывший союзник обманчиво нежно с ним играет. Он пытается поцеловать — Вильям стискивает зубы и запрокидывает голову назад, бунтуя. В его глазах горит гнев чужой пытки: он не привык. Он не любит. Это неправильно. Так нельзя. Зубы закусывают щёку изнутри в желании сдержаться. Не ударить.
Тело ростовщика податливо ласково жмётся, будто не понимая. Из уст слышит слабый смех — он приятный, но на Вильяма действует как повод стереть эту ухмылку с кривых губ. Чужие пальцы касаются ссадины и причиняют БОЛЬ. В груди Вильяма поднимается клокотание гнева.
«Надо было его убить».
«Надо было его убить».
«Надо было его убить».
И он хватает Хеля руками и рывком впечатывает к кирпичной кладке. Вильям не рассчитывает силы: он слышит стук ударившегося черепа и видит, с какой силой напирает на другого. Между ними колоссальная разница тисков: там, где у Хеля природно крепкая хватка, — у Вильяма мастерство бойца, оттачиваемое годами. Зверь, укушенный существом из клетки рёбер, вдруг внезапно оголяет зубы и кусает своего кумира в ответ так, что отрывает плоть от его бока.
— Играешь со мной? — приторно-сладко щекочет улыбка Вильяма, выдыхая в чужой рот. — Ты не доживёшь до утра.
Лицо в закатных лучах Астры улыбается нежно: закрываются прорези глаз, чёрная родинка подтягивается к веку. Он дарит Хелю то, о чём он так мечтал. Вильям вдруг становится так показательно ласков, что позволяет себе касаться: провести пальцами по очерченным границам острых скул, коснуться подбородка, нежно провестись вдоль линии нижней губы и чуть отогнуть её от дёсен.
— Я убью тебя, — шепчет Вильям как признание. — Обещаю: на заре ты умрёшь.
Зверь около запертого Чудовища оголяет окровавленную пасть. Его хозяин дал обещание. Он не бросает слова на ветер. Они ведь этого так желали?
Вильям отпускает Хеля, оставляя его тело около кладки кирпичной стены одинокой брошенной массой. Вильям помнит о том, кто всё это время незаслуженно остался без внимания.
— Привет, — ласково щебечет он связанному врачу, который отодвигается от него, как от прокажённого.
Вильям знает: врач в ловушке. Он не сбежит. Его хрупкое тело в руках двух монстров. Четырёх.
— Не бойся, — присаживается на колени Вильям. — Я тебя не обижу.
И доктор с опаской смотрит на фигуру, которая перед ним выпрямляется заново. И не зря: точный грубый удар ботинком в висок — и связанный пленник беспомощной куклой повисает у потемневшей стенки. Хель помнит это чувство: с ним Вильям поступал точно так же.
Поступит ли ещё?
— Ты спрашивал, где я был, — дружелюбно щебечет Блауз, поднимая бессознательное тело на себя и будто вспоминая старый «нужный» вопрос. — Я в этом доме снимаю. На третьем этаже.
Он подходит к Хеля вплотную и зажигает портальный телепорт. Ростовщика никто не спрашивает: его вталкивают в портал усилием властной руки в грудь. Их выбрасывает в чистую серую комнату. Тело врача-культиста оказывается сброшено у коридора как ношеный рюкзак.
— Скорее, — мельтешит Вильям, уводя Хеля внутрь студии под руку. — У нас разительно мало времени.
Хеля толкают на кровать. Заставляют лечь и опереться локтями о мягкие поверхности одеяла, ничего не объясняя, ничего не говоря. Вильям залезает следом: садится на чужие бёдра, сжимая их коленями, хватает левой ладонью за чужое горло. Мгновение — глаза становятся чёрными, ещё секунда — чернила магической вязи текут по щекам от век, пачкают руки. Вильям улыбается мрачным белозубым ртом:
— Не двигайся.
Его рука рисует узор прямо на сердце. Высвобождая чужое тело от оков мантии и жилета, скидывая их с одеяла. Единое мгновение кажется, что пальцы хотят рёбра сломать. Они жадные, грубые, острые.
Вильяму любопытно другое: как будет биться чужое сердце, когда его так просто услышать? Нажать, потрогать. НАДАВИТЬ.
Они вновь проваливаются в один из любимых кошмаров. В чужую память. Вильям бессильно падает на человека внизу.
Чужая память. Она похожа как капля воды на один из пережитых дней. Такое же ослепительное солнце, поющие птицы. Жерло Крокса прямо над головой. Журчание воды. В этом воспоминании Женева с ловкостью лани скачет по кочкам ручья: это место легко найти на карте из-за близости водоёма, в высоту неба из земли упирается гигантская серая пальма.
Там, у одной из пещер, её ждёт другой. Высокий мужчина с седой бородкой — Хель никогда не видел его ни в одном из воспоминаний, ни в переулках улиц.
— Сестра, — он тепло приветствует жрицу, обнимая её как дочь. — Тебе нужно быть осторожнее.
Женева кладёт светящийся камешек на наземный рунический символ и поднимает голову. Вход в пещеру открывается. В глазах старца — тени беспокойства.
— «Сигма» наступает нам на пятки. Они оправили сюда двоих своих людей. Ищут нас. Скорее всего придут, если будут следить.
Женева усмехается горькой улыбкой. Срывает цветок, заплетая его в локоны каштановых длинных волос. Выпрямляет спину и нежно отвечает:
— Чернобогу понравятся ещё две новые жертвы.
Чудовище скалится, когда видит кровь. Она перчаткой покрывает руки — удлиненные, неправильные, не похожие на человеческие, с длинными прочными когтями, с острыми линиями вырисованных под кожей костей. Мертвец не может причинить боли. Мертвец не может убить.
Человек внутри чудовища вопит от ярости и страха. Ему не нравится запах смерти, не нравится кровь на руках. Он готов собственной жизнью расплатиться за отнятую. Чудовище не согласно, но человек оказывается сильнее. Никогда, - шипит человек, вталкивая защитника в хрупкую клетку ребер. Никогда.
Кровь блестит на пальцах — человеческих, бледных, с хрупкой кромкой коротких ногтей. Эти пальцы тянутся к телу на земле, отводят светлые пряди с застывшего лица. Оружие все еще в пальцах ребенка, на лезвии — кромка чужой крови, кажущейся темнее человеческой. Почти черной. Мальчишке не больше четырнадцати, ужас застыл в остекленевших глазах. В ямке шеи покоится амулет — звериный клык на плотном шнурке. Пальцы сгребают его в ладонь.
Никогда, - с ненавистью шепчет человек и запирает клетку. Амулет ключом обнимает шею — достаточно плотно, чтобы не забывать о нем. И тварь ревет за грудиной — разочарованно, обреченно. Чудовище не станут выпускать, не станут даже слушать.
Хель чувствует: он сделал что-то не так. Неправильно. Он дал монстру под ребрами слишком много свободы. В глазах напарника — злость, почти обида. Он не терпит власти над собой. Чудовище бунтует: мое. Оно жаждет дотянуться не только до сердца, теперь — прокусить чужую кожу, вгрызться в мускулы. Оставить на чужом теле еще тысячу меток. Чудовище рвется из клетки изломами трещин на коже ростовщика. Терновник оплетает решетку.
— Играешь со мной? Ты не доживёшь до утра.
Хтоник вздрагивает. От встречи затылка с кирпичной кладкой темнеет в глазах. Он чувствует дыхание Вильяма на своем лице, затем — нарочито ласковое касание вдоль скулы, по изломам залегших трещин. К губам, задевая ссадины. Хель кривит губы в улыбке. Плевать, насколько глупой. Лицо напарника плывет перед глазами, обманчивая нежность причиняет такую же сладкую боль, как горящая метка укуса на шее.
- Я убью тебя. Обещаю: на заре ты умрёшь.
Хель врывается в чужой номер с настойчивостью безумца. Чужие слова застревают в сознании, как пуля в теле. До утра следующего дня ты не доживешь. Боль сбивает сердце с ритма, веселье мешает ее почувствовать, монстр под ребрами беснуется от довольства. Умрешь, - шипит он ласково. И Хель соглашается.
Он бросает принесенные перчатки на стол. Вильям не забыл, он знает. Помнит, как тщателен напарник в своей работе. Ты тоже — работа, - шепчет чудовище. Хель смиряется.
В глазах напротив — обещание смерти. Хель принимает ее, когда сбрасывает плащ, когда подходит ближе. Он чувствует чужой страх как свой собственный, он знает, что заслуживает смерти, даже самой мучительной. От рук Блауза он примет ее любой.
Металл скользит по коже — по дрожащему от напряжения животу, оставляя след мурашек, огибая шнуровку неснятого жилета. В полумраке ночи или при свете дня глаза напарника — как бездна, из которой не вырваться. Хель ныряет в нее с готовностью, позволяя человеку напротив решать, каким будет последний жест. Ему самому хочется протянуть ладонь — коснуться лестницы шрамов на запястье руки, держащей пистолет. Он знает: будет больно. Наверное, им обоим.
Металл прижимается к изгибу шеи под подбородком, надавливает, вынуждая поднять голову. Чудовище скребет под ребрами: выпусти. Старый инстинкт, призывающий защищать хозяина. Защищать себя. Хель сдерживает монстра. Сдерживает себя — потому что он и есть монстр.
Хочет касаться. Гладить, удерживать, ласкать. Вести пальцами вдоль излета чужих ключиц, по напряженным мышцам плеч, по рельефу обтянутого майкой торса. Неправильно — понимает Хель. Он не умеет касаться. Не умеет целовать. И человек напротив не просит ничего из этого. Он желает: умри.
И Хель соглашается.
- Я убью тебя. Обещаю: на заре ты умрёшь.
Ростовщик соглашается. Безмолвно, беспомощно. Он ничего не может противопоставить уверенности рук, вжимающих в стену, лезвию чужого взгляда, вспарывающего шею — на линии оставленных гематом. Будет больно, - обещает Чудовище. Почти мурлычет, с восторгом глядя на собрата из-за решетки. Оно понимает, почему его укусили, и с блаженством баюкает рану. Ты — мой, - шепчет оно, любуясь монстром напротив. За такое можно и умереть.
Вильям отстраняется, убирая руки, лишая Хеля опоры. Уходит — и ростовщик запрокидывает голову, закрывает глаза. Сердце колотится, кожа немеет там, где ее касались. Хтоник цепляется за свою трость с силой способных в плоть погрузиться пальцев. Судорога замирает в них. Не сейчас, - мысленно умоляет ростовщик, игнорируя поднимающийся зуд в горле.
Там, где хтоник сомневается, Блауз — действует. Хель вздрагивает, когда тело врача вновь безвольно валится на землю. Он помнит жестокость чужих ударов. И видит разницу между точным движением сейчас и теми рваными, остервенелыми — когда болью распарывали его тело. Клеймо чужого оскала горит на шее постоянным напоминанием под влажными от пота и выступившей крови бинтами.
— Ты спрашивал, где я был. Я в этом доме снимаю. На третьем этаже, - напарник взваливает тело пленника на плечи, выпрямляется, смотрит с обычной веселостью. Человек, которые обещал его убить. Хель сдерживает улыбку: ему все равно. Он чувствует себя дураком. И эгоистом — потому что у него Корвус, лавка, сломанный холодильник, в конце концов… а он все равно готов прижаться виском к пистолету в руке напарника.
Хтоника небрежно толкают в портал, будто показывая: власть больше тебе не принадлежит. Хель прощается с ней без всякой жалости, он знает: так нельзя! Нельзя! Но все равно забывает о культисте, когда Вильям сгребает его под руку и тащит в угол комнаты.
Все вокруг серое, безликое, не принадлежащее никому. Хель оглядывает пространство вокруг без малейшего интереса — здесь нет ничего, заслуживающего внимания. На мгновение под ребра вонзается нож: он чувствует — у Блауза мало вещей, которые тот может назвать своими. У Хеля, на самом деле, тоже.
Вильям останавливается у кровати, толкает хтоника на нее — бескомпромиссно: времени мало. Хель сжимается на сером покрывале, приподнимается, помогая снять с себя жилет. Голову заполняет стук собственного сердца, сливающийся в безумный гул. Руки Блауза словно повсюду, настойчиво хватают, удерживают, скользят по коже, поверх белых линий эластичного бинта. Причиняют боль даже когда не стараются. Хтоник замирает, вытягивается на кровати: он позволит этому человеку все, что угодно. Своему палачу. Трость падает туда же, куда летит одежда.
Вильям придавливает его к покрывалу, усаживаясь на бедра, и Хель задыхается. По-настоящему задыхается, когда ладонь напарника ложится на его горло — поверх потемневшего от крови бинта. Больно-больно-больно, - стучит в груди. У хтоника темнеет в глазах, пальцы впиваются в покрывало, пока чужие — безжалостно касаются его кожи. Вся суть требует одного: сбежать от прикосновений, от расцветающих вдоль рисунка чернил и трещин ожогов. В них нет ни капли нежности. Хтоник не двигается, принимая каждую пытку как должное: он чуть не выпустил монстра из клетки. Он заслужил.
- Не двигайся, - шепчет смерть. Хель впивается взглядом в лицо — бледное, с ползущими по щекам чернилами магии. Он никогда этого не нарисует, потому что умрет — и об этом стоит сожалеть. Истекающие черным руки рисуют узор на груди хтоника — прямо над ударами умирающего сердца. Врезаются в плоть с настойчивостью кинжала. Хель беззвучно шипит, стиснув зубы, упорно не желая закрывать глаза. Тело жаждет избавиться от боли: пальцы напарника грубые как когти, что скребутся под ребрами.
Вильям бессильно падает, покоренный собственным колдовством. Хель с готовностью принимает напарника в объятия, всей кожей чувствуя боль чужого тепла, — и проваливается в воспоминание.
Оно яркое, залитое солнцем. Приходится прикрыть ладонью глаза, чтобы справиться с избытком света. Хель морщится, вглядывается в пейзаж: жерло вулкана над головой, звенящий ручей — как ориентир, ведущий к пещерам. Женева. Хтоник невольно ждет, когда она повернет голову, заметит его… но это лишь картинка, и девушка скачет по камням. Живая, способная обнять в ответ. Больше нет, - шепчет девичий голос, и Хель вздрагивает. Собственный разум играет с ним. Чудовище ворчит под ребрами.
Сигма. Хель беззвучно повторяет слово, перекатывает его на языке. Это слово пугает — оно такое же клеймо, как укус на шее хтоника. Оно — цепь, сковывающая Блауза, ненавидящего оковы. Это кажется хуже грядущей смерти.
Воспоминание тает, унося с собой блаженную легкость тела. Реальность — болезненная, колкая, растекающаяся ожогом по коже. Хель моргает и чувствует тяжесть чужого тела, наваливающегося сверху. Крепкого, не похожего на его. Мышцы и жилы против остроты ребер. Хель обнимает напарника, ждет, когда тот придет в себя, упивается болью, вонзающейся в каждый вздох.
Он вспоминает… стихи. Наверное, останься Хель жив, они не дали бы ему покоя еще долгие годы. Но сейчас хтоник думает о том, какой неправильной была установившаяся тишина, когда голос Вильяма стих. Хель чувствовал еще тогда: нужно что-то сказать. Необходимо. Тогда он думал о том, что, возможно, пожалеет об этом молчании. Но жалеть осталось недолго.
Рука скользит по спине Блауза — ненавязчиво, почти невесомо лаская через неплотную ткань рубашки, пальцы касаются шеи под разметавшимися в беспорядке волосами — обрисовывают узор татуировки, которую Хель не может видеть, но чувствует: она там. Клеймо. На своей шее хтоник чувствует жар дыхания напарника: тот только приходит в себя. Магия отнимает много сил. Хель помнит.
- Вернись в лавку, когда… все закончится, - тихо просит ростовщик. Легко представить, что человек в его руках не слышит. Поверить, что говоришь с самим собой. Что тебе не ответят. - Ты ведь не собираешься, верно? Но я хочу, чтобы ты забрал череп. Найти ему место… он твой. Не рассказывай Корвусу… солги, что все вышло случайно. Что ты старался меня спасти. Скажи, что я не почувствовал боли.
Голос срывается. Хель делает вдох — болезненный и глубокий, чувствуя, как невидимый терновник прорастает сквозь каждую трещину на коже. Человек в его руках шевелится, хтоник уже может поймать его взгляд — осознанность в темных омутах. Вильям уже может удержать свое тело сам.
- Пожалуйста? - просит хтоник. Он помнит: Вильям выполнил просьбу снять очки. Он надеется, что и эта не пропадет впустую. Пальцы зарываются в темные волосы напарника — непослушные, но мягкие, не похожие на шевелюру самого Хеля. Боль замирает в невыдохе, когда пальцы касаются чужого лица — на этот раз мягко, ведь чудовище заперто. Скользят вдоль скул, очерчивают контур губ. Ведут по щеке и касаются пятна родинки.
- Времени мало, - выдыхает Хель. Он вдруг понимает: если не скажет что-то сейчас, потом уже не успеет. Как только дело будет завершено, он получит пулю в висок. Может, не успев даже попрощаться. Прощаться нужно заранее. - Я сразу понял, что это будешь ты. Как только увидел в лавке. Предчувствие. Я знал: ты станешь моей смертью. Не знаю, почему я пошел с тобой. Наверное, поэтому.
Он больше не пытается целовать — это глупо. Да и предсмертное желание озвучено, о большем просить хтоник не имеет право. Пальцы замирают у пятнышка родинки, гладят - невесомо, потом легко касаются чужих ресниц. Мое, - ревет чудовище из подреберья, но вырваться не может. Кашель замирает под горлом. Хель тихо обреченно смеется. Без малейшей радости. Судорога скручивает тело, и хтоник вжимается в кровать — подальше от Блауза, одергивая руки прочь от чужого тела.
Пальцы мечтают впиться в чужое тепло, но ростовщик помнит: Вильям ненавидит клетки. Он не хочет становиться еще одной.
- Это пройдет, - обещает он, - иди.
Не уходи. Он не имеет права просить: слишком жестоко заставлять палача утешать жертву.
Судорога выламывает ребра. Все волнения пережитого дня наваливаются разом, накрывают волной бесконечного ужаса. Хель задыхается, неестественно вытягиваясь на покрывале. Кашель рвет горло, и ладонь тянется к губам, чтобы заглушить хрипы. Обещаю: на заре ты умрешь, - шепчет самый нужный, самый желанный голос, и ладонь срывается, чтобы накрыть повязку на шее. Пальцы впиваются в нее, с силой надавливая, не позволяя сознанию соскользнуть в пустоту. Цепляются за боль так, как желали бы - за Вильяма.


В своём последнем украденном воспоминании Женева победно улыбается. Она не знает о том, что пророчество старца исполнится слишком скоро. Этой ночью она уже будет мертва.
А они — живы.
В этом особенно горькая насмешка судьбы. Вильям знает: ему совсем не жаль её. Он выныривает из чужого воспоминания как из ванной после очередной смешной попытки утопиться. Он показал Хелю всё, что хотел: дал подсказку найти место и дал повод передумать. Отголоски разума, там, где является совесть, настойчиво хватают за тиски.
«Быть может, он передумает? Испугается, уйдёт? Его портальная магия работает безупречно — от Астры до Тульпы как рукой подать. Там книги, родная лавка, чудесная птица, любящая морепродукты».
Вильям улыбается своим мыслям: как бы он хотел, чтобы Хель оказался трусом, чтобы передумал ввязываться в то, что претит его сущности миротворца. Он бы его не преследовал. Ни за что. Френсис такой прерогативы была лишена.
— Вернись в лавку, когда… все закончится, — тихо просит ростовщик. Вильям обращается в слух. — Ты ведь не собираешься, верно? Но я хочу, чтобы ты забрал череп. Найти ему место… он твой. Не рассказывай Корвусу… солги, что все вышло случайно. Что ты старался меня спасти. Скажи, что я не почувствовал боли. Пожалуйста?
Тело ещё отказывается подчиняться, только шея способна обратить голову к источнику шума. Вильям добродушно улыбается на просьбу. В его больных воспоминаниях Френсис наивно предлагает ему скрыться вместе с ей, будто она что-то для него значит. Чернила магической вязи ещё остаются на коже: бледнеют, но их владелец всё ещё остаётся похожим на чудовище больше, чем на человека.
Он отвечает то простое, на что имеет право палач:
— Нет, — и ложится на чужую грудь.
Он не осознаёт жестокость своих слов и действий. Он может легко снять очки, когда не хочет, и отказать в том малом, но важном желании, о котором принято умолять. Желании жертвы. «Самоубийцы» — добавляет сознание. А самоубийц не принято жалеть.
Руки обретают привычную им силу: пальцы чувствуют покрывало под ладонями. Мышцы настойчиво требуют движения. Но Вильям не хочет: слишком приятны касания к спине через лёгкую ткань рубашки. Лопатки сами изгибаются под ласки чужих рук. И Вильям позволяет себе то, что хочется, — остаться. Пережить это мгновение и позволить прикасаться так, как он этого хочет.
Без боли. С нежностью приговорённого к смерти. С зависимостью того, кто не может без чужих прикосновений.
Глаза Вильяма закрываются от удовольствия. Чужая ладонь ведёт по его шее, обводя невидимый символ, который теперь так много значит для обоих.
— Знаешь, всё утро думал, — говорит Вильям так, как будто беседует с лучшим другом, — что же не так с моей «семьёй». А потом понял: папка. Когда они сказали тебя найти, отдали мне такой талмуд, что я напрягся. Они собирали о тебе сведения годами, столько сделали тайных фотографий, чтобы я мог тебя найти. Я сразу понял: ты им нужен. Но не ожидал, что они захотят разменять меня на тебя. Забавно. Я никогда не говорил тебе, что я из детского дома? Что первая, что вторая семья от меня отказались. Интересно, у моих настоящих родителей есть ещё дети после...?
И Вильям горько усмехается собственному вопросу. Неуместному, ненужному, глупому. На который нет ответа ни у кого из них. Вильям не уверен, что сам хочет знать. Лишь позволяет себе откровенность на ласку чужой руки. Люди не кошки и не умеют мурлыкать. Но могут звучать похоже.
Когда касаются их волос, когда с нежностью ведут по их лицу. Вильям пьяно смотрит в ответ на касание к родинке: она та особенная слабость, неподвластная телу. Он наклоняет голову в сторону и ловит поверхность чужих ладоней, впервые целует сам — выше линии жизни, которая скоро прервётся.
— Времени мало, — выдыхает Хель. — Я сразу понял, что это будешь ты. Как только увидел в лавке. Предчувствие. Я знал: ты станешь моей смертью. Не знаю, почему я пошел с тобой. Наверное, поэтому.
И Вильям утробно засмеётся, но это услышат только одни уши. В своём предположении Хель оказывается прав: ментальному магу мало пустить пулю в висок. Ему нужно отыграться на сердце.
Рука тянется следом — и Хель отстраняется так невовремя, что Вильяму почти обидно. Времени катастрофически мало. Но им хватит часа, чтобы насладиться друг другом.
Вильям уже не боится кашля, он знает: это пройдёт. Но уходить не хочет. Вместо этого садится на кровати, подтягивает к себе другого. Прижимает к своему телу с любовью, заботой. Вновь скинутые на покрывала перчатки зияют опасными насекомыми, холодные руки касаются волос Хеля неприкрытой лаской. Потом ладонь вплетается в другую — и согревается. Руки стягивают с чужого запястья родной, похожий атрибут. Он не закрывает пальцы, но прячет ладонь. Лишнее.
Ненужное.
— Вернись, — шепчет Вильям Хелю в лицо.
Целуя щёки, лаская шею. Касаясь рта — языком лишь губ, но не чужой глубины за зубами. Приближая так близко, что уже — преступно. Вильям не знает, что там, за гранью пропасти и небытия. Чего так боялся Хель, залезая пальцами в его внутренности в номере жрицы. Но узнаёт похожую судорогу. Узнаёт — и пытается выдернуть из бездны словами.
Касанием.
Чувством.
У них есть всего лишь час. Катастрофически мало времени.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-11 08:32:16)
[html]<iframe frameborder="0" style="border:none;width:100%;height:80px;" width="100%" height="80" src="https://music.yandex.ru/iframe/#track/83610267/15761827">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/15761827/track/83610267'>Firework</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3149003'>Chase Holfelder</a> на Яндекс Музыке</iframe>[/html]
- Нет.
Хель представляет себе лавку — заброшенной, опустевшей. Птичий насест под потолком с царапинами от когтей, покрытые пылью артефакты. Череп, медленно поедаемый временем, стачиваемый разрушением — без защиты владельца. Ничей, как выброшенное прочь сердце. Корвус… Хтоник не может представить товарища оставшимся в одиночестве. Кажется: это невозможно.
Есть что-то ужасное в том, чтобы баюкать своего палача в объятиях. Даже зная: ростовщик сам принял свою судьбу, сам выбрал, хотя мог отказаться, сбежать — не только сейчас, вообще в любой момент. Мог вернуться домой, но он здесь: медленно ведет ладонями по чужим лопаткам, касается так, словно имеет на это право. Он был уверен, что не сможет так никогда. Прикоснуться, пересилив боль расцветающих на коже фантомных ожогов. Он научился ими наслаждаться.
— Знаешь, всё утро думал, что же не так с моей «семьёй». А потом понял: папка. Когда они сказали тебя найти, отдали мне такой талмуд, что я напрягся. Они собирали о тебе сведения годами, столько сделали тайных фотографий, чтобы я мог тебя найти. Я сразу понял: ты им нужен. Но не ожидал, что они захотят разменять меня на тебя. Забавно. Я никогда не говорил тебе, что я из детского дома? Что первая, что вторая семья от меня отказались. Интересно, у моих настоящих родителей есть ещё дети после...?
Хель позволяет себе грустную улыбку. Он вспоминает человека в баре, лицо, скрытое за завесой дыма. Плохой лжец — в тысяче раз хуже того, что он сам сейчас обнимает. Хель размышляет над тихим вопросом так, словно должен найти ответ, но находит не тот. Он понимает: после Вильяма не может быть ничего. Этот человек — не просто точка любой истории. Он обрыв страницы, рваный бумажный край, напоследок режущий пальцы. Хель тонет в чужих глазах, видя, как медленно гаснут чернила магии. Красиво.
Я хочу нарисовать тебя. Пальцы ведут по линиям скул, по кромке носа — аккуратного, не такого, как у Хеля. По линии челюсти. Невесомо касаются ссадин, чтобы не причинить боль. Кончики пальцев саднит, будто прикасаешься к кромке лезвия. Боль оказывается так легко задержать на ладони — совсем как прикосновение губ. Хочется запомнить это лицо, каждую черточку. Таким людям, как Блауз, легко затеряться в толпе — но хтоник знает: он бы никогда не пропустил этого лица.
Когда судорога подкрадывается совсем близко, Хелю жаль. Он знает: пора прощаться. И готовится нырнуть в боль в одиночестве. Как и должно быть, как было всегда, пока в его жизнь не ворвался человек в красных перчатках. Росчерк внимательного взгляда, впивающиеся в плоть стихи.
- Иди, - просит хтоник.
Он знает: нельзя просить палача остаться. В мыслях своих он произносит это слово так, как ни один приговоренный бы не смог — с нежностью, с наслаждением. Чудовище под ребрами баюкает в когтистых лапах чужое сердце. Хель чувствует, как его собственное обрастает терновником — так плотно, что шипы впиваются при каждом ударе. Больно дышать. Не уходи, - мысленно умоляет он и приказывает себе отстраниться. Не удерживает. Нельзя, помнит ростовщик.
И вздрагивает, когда чужие пальцы сами льнут к телу, холодная обнаженная кожа — к его горячей, почти обожженной. Прикосновения поверх изменчивого узора чернил, поверх пятен синяков и ссадин — словно по разлившейся акварели. Хель задыхается.
- Вернись.
Он чувствует: чужие ладони скользят вдоль плеч, подтягивая ближе, переплетают пальцы — руки Вильяма согреваются под его пальцами. И Хель жалеет, что не может разглядеть лица напарника за плотной завесой наваждения. Касания ведут по коже, лаская так, как Хель только мечтал: мягкие прикосновения губ вдоль скул, по щекам, нежность пальцев на раскрашенной синяками шее — нельзя! Судорога выгибает тело, ломает пальцы, рот наполняется привкусом пепла.
Хель не понимает, где он - его разум рисует серые линии склепа, острые сколы костей под руками. Но тело чувствует другое: живое присутствие рядом, касания рук, заставляющие остаться в реальности. Хтоник льнет к теплу, задыхаясь, прижимается ближе.
- Уходи, - просит он, изгибаясь в чужих объятиях. Перед глазами мелькают обрывки воспоминаний. Уставший ментальный маг, дрожащее стекло в его пальцах. Сочувствие, призывающее отвести взгляд. Сочувствие, просящее: уходи. Тебе тоже будет больно. Зачем?
Касание к губам — легкое, мягкое, но… Хель тихо стонет и тянется за продолжением поцелуя. Слепо ищет чужие губы. Мое, - шепчет Чудовище. Мое, - соглашается Хель. Не уходи.
Висок прижимается к дулу пистолета.
Пальцы — к кромке лезвия.
Хтоник целует своего убийцу — отчаянно, утопая в ожогах под самой толщей воды. Руки находят чужие плечи, изгиб шеи — и тянутся провести по коже, впиваясь в чужое тепло лишь немногим сильнее, чем допустимо. Язык слизывает кровь с треснувших ссадин, губы нежно скользят вдоль гладкого подбородка, по пятну кровоподтека — срываются к шее.
- Я хочу нарисовать тебя, - шепчет хтоник, прижимаясь губами к изгибу чужой шеи. Пальцы находят воротник рубашки, скользят по хрусткой ткани, настойчиво тянут, отводя от кожи, чтобы прижаться губами — еще ближе, к излету ключиц.
Тьма склепа уступает — что она может против обжигающей боли реальных прикосновений? Пальцы в судороге дергают за ткань чужой рубашки. Хель помнит: нельзя. И тянет сильнее, слепо ищет контуры пуговиц.
Губы возвращаются к губам. Хель не хочет отстраняться — ни на миг. Мышцы ломит от напряжения.
- Ты красивый, - глупо, пьяно выдыхает хтоник в поцелуй, почти не понимая, что говорит вслух. Губы скользят по чужой щеке, язык ласкает рельеф родинки под глазом. Не уходи.
- Не уходи.
Хель опрокидывается на кровать, не размыкая рук, тянет напарника за собой — снова и снова пьяно ведет губами по чужой коже. Пальцы срывают очертания пуговиц, пробираются под ткань — кожа к коже. Контуры плетеных браслетов вжимаются в чужое тело.
Хель видит: лицо Вильяма. Полузакрытые глаза, бледность кожи, ссадины на губах. И целует снова — в уголок губ, в подбородок. Дыхание замирает, сердце бьется неровно, сбитое с ритма.
Пальцы скользят по чужим плечам, срываются вдоль спины. Прикосновений никогда не было так много. Хель помнит: тишина лавки, ее уют и рельеф тисненых обложек книг под пальцами, шелест страниц. Они не причиняют боли никогда, пальцы скользят по шероховатому пергаменту… неудачный жест — и тонкий след царапины расцветает на краю ладони. Сейчас каждое касание к Вильяму — как порез о бумагу. Глубокий. Прорастающий терновым кустом.
Нельзя, - думает Хель, и пальцы находят нижнюю кромку чужой рубашки, настойчиво тянут вверх, чтобы пробраться под ткань. Нельзя.
Хтоник пьяно стонет в поцелуй, прижимаясь ближе, скользя ладонями по спине напарника, чувствуя рельеф мышц, очертания лопаток. Ему мало, так мучительно мало этих прикосновений.
Мое, - шепчет Чудовище, и пальцы дергают край рубашки — сильно, уверенно. Наполовину расстегнутая, наполовину — неуклюже разодранная рубашка повисает на плечах Вильяма. И руки скользят по коже живота, царапая ногтями. Чудовище утробно рычит и тянется к собрату. Хель задыхается и тянет Блауза на себя, заставляя прижаться ближе — кожа к коже. Весь мир — чужое тело, губы, ожоги прикосновений.
- Не уходи, - умоляет Хель, и это звучит как предсмертное желание. Пальцы зарываются в мягкость волос напарника. Хель чувствует чужие бедра своими. Чудовище вгрызается в подаренное сердце, лаская, баюкая. Нельзя.
Но так нужно.

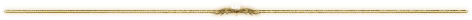
Глаза внимательно смотрят. Они наблюдают: Хель находится по ту сторону реальности, где Вильяму места нет. Склеп, грот, больная фантазия с отголосками прошлого. Вильям не думает о том, чтобы вторгнуться насильно в чужой разум, узнать секреты, лицезреть кошмары. Он просто хочет вытянуть наружу.
Вырвать из пропасти, не заглядывая в неё. Как можно спасти утопающего, кинув круг, но не измеряя тёмных глубин пучины, в которые засосало. Просто выхватить и вытянуть наружу, на спасительный берег.
На спасительную простыню кровати.
— Вернись, — настойчиво повторяет Вильям прямо на ухо ростовщику. — Вернись ко мне.
Человек в объятиях изгибается болезненной ломкой. Ловит его кожу вслепую, ищет очертания знакомого лица кончиками пальцев, углами губ. Просит уйти. Умоляет, отталкивает, уговаривает остаться — взглядом. Болезненно целует в искусанный ранее рот: в глазах Хеля Вильям не видит отражений сознания, его действия спутаны и нелогичны. Его бывший союзник почти слеп, и он отвечает на его ласку, немо повторяя: «Я здесь. Ты знаешь моё имя». Пальцы знают: чужие ладони проникают в прорези фаланг, сжимают кисти, держат руки.
«Я тут». «Ты чувствуешь мои ладони». «Не бойся, я рядом».
Эта пропасть не кажется такой необъятной. Такой же страшной, как тогда, в номере теперь уже мёртвой жрицы. В жестах напротив нет привычной покорности перед неизбежностью. Есть борьба. Вильям ярко улыбается про себя: гордится. Он ценит силу. В том числе, и над собственными кошмарами. В том числе у того, кто сейчас находится перед ним.
— Ко мне, — тихо он шепчет в губы, удерживая чужой подбородок.
В серых глазах напротив проявляется ясность взгляда. Это заводит не меньше оголённого пять минут назад тела с резьбой странных татуировок и выступающих рёбер. Человек напротив чувствует тоже: в их диалоге слишком много лишней одежды. Хель порывисто пытается расправиться с чужими пуговицами, но в конце они летят искрами отлетевшего пластика куда-то под ноги. Вильям выпрямляется, стягивая с плеч рубашку. Ремень его брюк перевязывает чужие запястья сверху.
В одежде тесно. В одежде жарко.
Но пытка другого не будет прекращена так быстро.
Вильям любит мучить, оттягивать удовольствие до точки кипения. Лишить подвижности, лишить возможности прикасаться тогда, когда он не хочет. Его пленник привязан ремнём к изголовью кровати. Его пленник будет терпеть всё, что будут с ним делать.
Смотри.
Прикосновение губ — болезненное, чувственное — к синяку, что расцвёл на шее. Против яркой нервности поцелуя — почти нежность любовного касания зубами. Кожа на ключицах Хеля тонкая, как ткань. Я в ямку между ними так ловко помешается язык. Живот, украшенный вязью чёрных символов, боязливо втягивает от ласки поцелуев и укусов — перемешанных между собой, неожиданных вдоль выступающих рёбер. От пальцев, замирающих около кромки чёрных джинс.
Чужое тело — интересная карта. Вильям любит изучать человека как предмет искусства. Вот здесь нарочно чувственное движение не вызывает яркого отклика — он это видит. Вот тут поверхностная ласка вызывает ураган чувств — и это замечает. «Ты красивый», — звучит в голове чужим голосом, и Вильям довольно улыбается. Ему нравятся эти слова, они всё равно что признание, которое ещё не прозвучало.
Лицо напротив лишено классической эстетики. Горбинка на носу, кривой широкий рот, тяжёлый взгляд, узоры чёрных линий на шее в виде остроконечных пик. Вильям улыбается.
— Чудак.
Именно это его и когда-то покорило.
Именно это позволяет избавить другого от тисков: собственного ремня, ненужной одежды — у них обоих. Подарить свободу, позволить каплю инициативы. В неуместной страсти есть своя доля удовольствия.
— Я тебя убью, — с обожанием шепчет Вильям, впечатываясь в чужие губы.
Им осталось не так много времени. Но ему всё равно.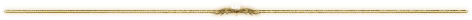
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-12 10:58:19)
Хель помнит: нельзя. Касаться, льнуть еще ближе, тянуться губами за новым поцелуем. Пьяно, больно, безумно. Каждый миг помня: жить осталось лишь до рассвета. Извиваться под руками своего будущего убийцы - того меньше.
Ко мне, - шепчет Блауз, и хтоник слушается, чудовище под ребрами покорно льнет к живительному теплу. Мое, - рокочет из клетки ребер. И безумец в чужих руках задыхается. Изломы трещин стираются с кожи, выжженные настойчивым прикосновением. Так же стирается холод склепа, страх пустоты и одиночества растворяются, как дурной сон, оставив лишь горечь пепла на языке. Поцелуй стирает и ее.
Хель не замечает, как его запястья перехватывает оплетом чужого ремня, лишая возможности касаться — чтобы чужие прикосновения чувствовались еще острее. Ласки жаждущих пальцев вдоль плеч, красноватые следы зубов под ребрами. Заставляющие извиваться, прикусывать губы. Вглядываться в лицо своего палача и жаждать новой боли, лезвиями пальцев скользящей по дрожащему от напряжения животу.
Хтоник знает: безумие! Подставляться под ладонь, молить о новом прикосновении — мысленно, больно, пьяно тянуться еще ближе. Ему почти не верится, что когда-то от этих рук он стремился уйти как можно дальше. Чудак, - улыбается Вильям, и Хель улыбается в ответ. Полный дурак, - шепчет подсознание. Ростовщик согласен с каждым словом, он помнит, когда пропал: когда стихи звучали в темноте комнаты под мерный стук часов. Когда после он взглянул в глаза своего палача и провалился в омут так, как никогда не мог даже в кошмары.
Желание помнить покидает вместе с остатками одежды. Все, что становится важно — лицо Вильяма, плотно прижимающееся тело, живое, обжигающее тепло. Там, где Хель — изломы впивающихся косточек, его напарник — контуры мышц. И хтоник стонет, чувствуя дрожь чужого дыхания, скользящего по шее.
- Я тебя убью, - шепчет убийца с той нежностью, какую не встретишь в любовном признании. Хель улыбается в шальной поцелуй и тянется еще ближе.

|
|
|

Сбитое дыхание восстанавливается, и Хель заставляет себя приподняться. Чужое тело рядом — крепкое, столь не похожее на его собственное. Пальцы невольно жмутся к изрезанному шрамами чужому запястью — всего на миг, почти прощаясь. Хель поднимается и тянется за одеждой, игнорируя болезненную тяжесть мышц.
- Хотя бы забери череп, - просит он, - хочу, чтобы у тебя осталось что-то…
Он улыбается, как будто в этой просьбе есть хоть что-то нормальное. Касание плотной ткани к телу кажется неправильным, колким, обманчиво безболезненным — без лезвия чужих рук собственное тело кажется чужим. Неуклюжим, когда не извивается в тисках сладкой боли. Хтоник поднимает рубашку, чтобы протянуть напарнику и замечает, во что его пальцы превратили ткань, надорванные швы кажутся подобием шрамов на коже, половины пуговиц не хватает.
Магия льется из рук — импульсивно, почти бессмысленно, приводя рубашку в первоначальный вид. Хель мог бы гордиться своей работой. Он возвращает одежду Вильяму, а сам перехватывает трость, запоздало замечая: лишенная привычного покрова тонкой перчатки ладонь непривычно льнет к холодному металлу.
В подреберье непривычно тихо и спокойно: сытый довольный зверь ленится доставлять хозяину неприятности. Ладонь взлетает выше, пальцы цепляются за шнурок удавки и скользят вдоль нее — по границе свежих и застарелых ссадин и синяков.
- Хотя ты прав, - выдыхает Хель с горечью, - лучше, если у тебя не останется ничего. Чтобы… не вспоминать.
Он усмехается и выпрямляется. Оглядывается: мир вокруг кажется серым, холодным, безжизненнее любого склепа. Просыпающийся разум вспоминает обо всем — не сразу, но постепенно восстанавливая в памяти события последних дней. События вечера. Хель вспоминает шорох тяжелого балахона, сейчас бесполезной грудой сваленного возле кровати. Запоздало шнурует жилет. Хочется сказать что-то… совсем как тогда, когда Вильям читал стихи.
Я не хочу, чтобы ты меня забыл.
Хочу, чтобы помнил.
Но хтоник уверен: скажет что-то неправильное. Все самое важное понятно без слов. Он последует за своим палачом куда угодно, позволит сделать с собой все, что тот пожелает. Чудовище под ребрами довольно рычит - едва ощутимо. Оно согласно, что жизнь - достойная плата за чье-то сердце. Если собственного оказывается мало.
- Лишь дай мне посмотреть в последний раз в твои глаза, - тихо выдыхает Хель, почти беззвучно. Он не помнит, откуда эта строчка, но она приходит на ум, когда он оборачивается, чтобы взглянуть на Вильяма.
Лишь дай мне посмотреть в последний раз
В твои глаза,
Я солнцем обернусь и в них
Останусь навсегда.
Отредактировано Хель (2022-07-12 16:58:45)


Вильям ведёт пальцами вдоль поверхности шеи, касается контура кивательной мышцы. Его ладонь приятно-тёплая, почти горячая. Её согрели — другое тело. Другое тело ложно опасное на вид, с пиками агрессивных узоров, восходящих к лицу, но хранящее в себе хрупкость старинного зеркала. На губах сама собой рождается улыбка. Расцветает, как цветок мака под солнцем: ленивая, довольная. Счастливая.
— Спасибо, — умиротворённо произносит Вильям, украдкой касаясь Хеля взглядом. — За всё.
И дело даже не в протянутой рубашке. Тело отчётливо помнит следы чужих касаний: в них нечто больше спонтанной страсти за мгновение до смерти. Вильям знает, он пробовал десятки раз: тело, которое тебя хочет, и тело, которое тебя любит. Второе — единожды.
Френсис. Её имя болезненным изломом впечатывается в память, заставляет сравнить — тогда и сейчас. Тебя любят так же? Вильям вопросительно смотрит на худощавую спину с краю. И боится ответить. Неозвученные чувства что щит: позволяют быть на ступень выше своего соперника. Невозможно влюбиться за три дня. Невозможно. Вильям пытается выпить эту мысль как таблетку. Кошки на сердце когтями рвут грудные мышцы, ошмётки летят под ноги. Даже думать об этом — больно.
Вильям благодарно кивает, принимая в руки восстановленный атрибут одежды, и надеется, что его не будут спрашивать о случайно брошенных словах. Он так привык думать о том, что говорит, что обычная вырвавшаяся благодарность кажется неуместной и ломает образ.
«Ломает образ», — сознание цепляется за собственную мысль как за жвачку, прилипшую к ботинку. Заставляет хмурится: как это отвратительно. Как давно он был настоящим? Настоящий ли он сейчас?
Рука тянется к сигаретам оставленных на полу брюк. Чиркает зажигалка, губы вдыхают терпкий дым, что обжигает лёгкие и горло. Стирает послевкусие поцелуев: разум упорно стучит, что «навсегда». И Вильям протягивает одну из сигарет Хелю. Тот не видит, повёрнут спиной. Наверное, просто не хочет.
— Заладил ты с черепом, — слова грубым лезвием вонзаются в воздух. — Не нужно мне ничего от тебя, успокойся.
Невежливо. Манерно. Вильям приводит в себя словами так, как приводят в сознание шлепком половой тряпки. Он оседает в кровати, задержав сигарету в зубах и опустив ноги на пол. Спина ещё чувствует фантом рук, которые её касались, опирались на плечи. Слабое тело — цепкая хватка. Есть особенное очарование в том, что человек силён именно там, где ему больше всех необходимо. Вильям выпускает из губ столб сигаретного дыма и находит под ногами чужую потерянную перчатку рядом со своими.
— Представь, что я умру, а ты останешься. Случится? Возможно, — цедит насмешливый голос словно злую шутку. — И этот череп останется в лавке. Будет стоять, смотреть на тебя своими зелёными глазами, светить своей полированной макушкой. Поставишь на видное место, чтобы его быстрее купили? Или спрячешь в стол подальше от собственных глаз? Представляешь: какая память, какая боль!
Вильям дьявольски улыбается и протягивает руку к чужой вещи. Прошитые прорези для пальцев, мягкая разношенная кожа, заклёпка у запястья с истёртым от времени логотипом. Пальцы сами надевают чужую перчатку на собственную руку. Как раз, красиво — грубость чёрного цвета на длинных музыкальных ладонях. Вторые перчатки ложатся следом — привычные, красные, родная кожа. И правую руку становится сгибать чуть сложнее, чем раньше, но знать, что под ней украденный артефакт, становится важнее всякого дискомфорта.
Вильям считает, что он давно искоренил воровство, — привычку воспитанников из детского дома, — но сейчас ему даже не стыдно украсть. Разум почти уверен: другой не заметит. Слишком увлечён собой.
— Лишь дай мне посмотреть в последний раз в твои глаза, — словно обухом бьёт по голове.
Вильям обескураженно моргает, отстраняясь.
— Совсем, да? — усмехается он в голос, а после вскакивает, будто его ударили по спине. — Тоже мне, влюблённый!
Смех звенит рекою. В наклонённой голове, голосе, срывающем связки, не видно одного: как горят за волосами щёки, как краснеют уши. Вильяму кажется: его невозможно вывести из равновесия ни одной даже самой пошлой шуткой. Он сам может пошутить так, что испорченные девицы покраснеют. Однако эта странная просьба выбивает из колеи как подпорку под ногами висельника. Вильям выскакивает из спальни как ошпаренный. В коридоре на него с осуждением смотрит проснувшийся культист.
— Увлёкся, пардон, — оправдывается он за недвусмысленные ранее звуки и вновь бьёт несчастного врача коленом по голове.
Солнце клонится к закату, оставляя небо в густом багровом оттенке. Из окон серой квартиры оно похоже на кровь. Перемазанную с сажей серых облаков, густую и смешанную с маслом. Вильям оглядывается на Хеля, отодвигает свой локоть в бок в приглашающем жесте. Как тогда, в лавке, когда он знал к совместному телепорту.
Хель узнает этот жест. Точно узнает: немой, однозначный.
— Пора.
Влажная полоса вдоль солёного берега.
Счастье ли - по колено лишь быть обнажёнными?
Искрами побежали минуты бесценные:
Золотом каждый час нам на память останется.

Взгляд упорно выхватывает детали: смазанную счастливую улыбку, чуть дрогнувшую ладонь. Хель знает, что помнить осталось недолго, но все равно любовно собирает эти детали, как будто они будут иметь значение, когда придет время умирать… но будут. Хель понимает: для него все это будет иметь значение, не важно какой будет смерть. Быстрой болью в висок или мучительным умиранием в пустоте. Все равно.
Этот человек того стоит. Он смотрит, как ткань рубашки скользит по рукам, как эти руки тянутся к пуговицам — и торопится отвернуться, потому что иначе запомнит каждую деталь так, что не сможет не думать, не проигрывать перед глазами снова и снова… времени так мало. А он только сейчас почувствовал, что оно вообще есть.
В маленькой квартирке нет ничего от Вильяма. Хель позволяет себе шальную мысль: представить напарника в уюте родной лавки. Воображение совмещает два образа — энергичного гостя в красных перчатках, скользящего у прилавка и спокойного счастливого Вильяма, смотрящего с улыбкой. Спасибо. За все. Саднят запястья - на них остались розоватые следы чуть ниже перевязи браслетов.
Запах сигарет навязчиво липнет к коже. Хель помнит привкус дыма на чужих губах, стирающийся с каждым касанием. Небрежные слова снова вонзаются в тело — иглами под ребра, сдирая коросту подживших ран. Не нужно мне ничего от тебя, успокойся.
Хтоник вздрагивает — почти незаметно. Укол боли ничтожен, ведь тело еще помнит тепло чужих касаний, ласку рук, завораживающий взгляд. От глаз Вильяма невозможно оторваться. Невозможно не вспоминать снова и снова… и Хель молчит, не отвечая. Он знает: закончись их приключение иначе… череп займет место там, где его не найдут глаза покупателей. Но взгляд Хеля отыщет всегда. Он будет помнить, потому что когда от человека остается лишь боль — стоит сохранить и ее.
Хель не облекает чувство в слова. Бессмысленно. А он так мало знает о человеческих чувствах, что остается гадать: было бы так же с кем-то другим? Он старался избегать дел с людьми, знал: не выдержит настойчивых касаний, расспросов, резкости движений и голосов. Вильям завораживает его каждым своим жестом. Разум упорно рисует срывающиеся с чужих рук чернила магии, смеющийся рот, острые края зубов. Я хочу, чтобы ты меня помнил.
Но будет лучше, если забудешь.
Эгоистичное желание остаться в памяти нужного человека. И глупая надежда, что этого не случится — потому что тогда человеку будет больно.
Не хочу причинять тебе боль.
Хель касается собственной шеи — там, где остался след чужих зубов. Метка, значащая не больше и не меньше татуировки на чужой шее. Хочется сохранить этот след, носить на себе, всегда находить, мазнув пальцами над шершавой нитью амулета. Но он сотрется — так же, как время растворит и образ самого Хеля в чужих мыслях. Сначала забудется что-то одно, может, запах или звук голоса. Постепенно вещи и события перестанут напоминать… услышишь мерный стук часов — и уже не подумаешь о том, как стучала трость, соприкасаясь с полом. Блеск серебра перестанет напоминать о чужих глазах. Хель надеется, что так и будет. И боится — остаться шрамом на чужой коже.
Боится остаться всего лишь шрамом.
- Лишь дай мне посмотреть в последний раз в твои глаза.
Глупо. Вырывается так случайно и некстати — Хель хочет смотреть в них вечность. Хочет поднимать голову от книги и находить знакомый взгляд. Хочет слышать звук голосов в лавке: спор Корвуса с Вильямом. Перепалку, в которой сам он никогда не мог победить друга. У Вильяма могло бы получиться. Хочется не только бесценный череп пристроить в подходящие руки — хочется свое сердце протянуть на ладони. И знать бы, что от него не откажутся…
Но если сердце нужно кому-то, лишь чтобы пулю пустить — пусть будет так.
— Совсем, да? Тоже мне, влюблённый! - вскидывается напарник.
Хель видит что-то, похожее на удивление. И Вильям отворачивается, опускает взгляд, голову — уходит в коридор. Стремительно, будто убегает. Хтоник оглядывает оставленный беспорядок: смятое покрывало на постели, пятно сброшенного балахона на полу. Свет, проникающий в окно, окрашивает серость комнаты в багрянец. Закатный свет — кровавый, встревоженный. Ложится на стены и пол подобием предсказания.
Хтоник думает: к лучшему. Он чувствует себя не тем человеком, что покинул лавку в Тульпе. Не тем, кто наслаждался спокойствием и уютом тишины. Тот человек не мог взглянуть в зеркало, не мог стерпеть ожога чужой руки. Тот человек боялся смерти — только, кажется, он уже умер.
Влюбленный, - звенит чужой голос в голове. Хель перекатывает это слово на языке, пробует на вкус… но не понимает до конца. Всего лишь слово. Пытается связать его с тем, что чувствует… Зачем? - ворочается тварь под ребрами. Зачем давать этому название?
Хель выходит в коридор следом за Блаузом — всего минутой позже. Но звук удара не пропускает… и не чувствует вины. Смотрит на человека в красных перчатках и думает: он способен на многое. На страшные кровавые вещи. А все равно хочется подойти ближе, подставиться под прикосновение жестких режущих рук. Прижаться виском к дулу пистолета. Шею приблизить к кромке подставленного лезвия. В этом есть что-то чудовищное.
Хель не знает, что такое любовь. Может, о ней знал тот, кто был раньше — до кошмара, стершего память о прошлом. О Человеке. О том, кто в холодный и пахнущий смертью склеп заполз не иначе как умирать. Может быть, тот человек знал — о любви и ревности, о ненависти до стертых в кровь костяшек пальцев, о верности и преданности. Но Хель не знает, как назвать то чувство, что заставляет искать чужой взгляд. И вспоминать: каждое прикосновение. Каждый удар. Скол острых зубов. Шепот, вырывающий из бездны страха.
Ты умрешь, - обещает самый нужный, желанный голос.
Хель не знает, как назвать чувство, заставляющее покориться. Все называют по-разному. Но он знает: этому человеку отдаст все. Вложит в его руки, обтянутые красным, словно залитые кровью, любую ценность. Чудовище ворчит в подреберье согласно и довольно — чудовище знает то, о чем не догадывается хозяин. Ему уже отдали сердце, и клыки погрузились в чужую плоть. Нещадно, безжалостно кромсая — уже больно. Будет еще больнее. До воя в подушку, до выламывающего пальцы напряжения. Любому из них, кто переживет ночь.
- Пора, - говорит палач.
И Хель подходит, чтобы коснуться чужой руки — отражением уже минувшего жеста. Ярким всполохом в голове: среди безделушек и книг Вильям выпрямляется, смотрит с вызовом и приглашением. Возможно, ты пожалеешь, Хель, но скучно тебе не будет точно. То прикосновение было легким, осторожным, чтобы не чувствовать боли. В этот раз Хель готов встретиться с ней — чужая кожа как жар огня.
Портал уносит прочь — к виселице, к плахе. К последней ночи перед неминуемой казнью. Хель не знает, что говорят в таких случаях, но надеется, как глупый и наивный мальчишка, что умрет не в пустоте запертого склепа. Если последний миг встретит на дне завораживающих глаз, на расстоянии вытянутой руки от человека, к которому хочется прижаться всем телом, уткнуться носом в плечо…
…так ли страшна смерть?

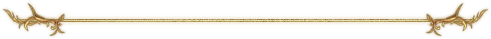
«Ничего не ответил», — слух режет воцарившаяся в комнате тишина.
Вильям дружелюбно улыбается и тянет напарнику локоть, будто всё, что происходило час назад в серой комнате, не существовало или не имеет значения. Лицо скрывает постыдные воспоминания как за выверенной точной маской секрет. В глубине души Вильям знает: это воспоминание ещё долго будет греть его сердце, знобить под пальцами горячностью чужой кожи, уши запомнят звук — так звучит наслаждение из уст того, кто разительно часто молчит. Время сотрёт нещадно много. Или вонзится в кожу гвоздём между костьми.
— Какой-то ты пригашенный, — усмешкой замечает Вильям, впиваясь взглядом в чужое лицо. — Всё было так плохо? Теряю форму. Возраст. Извини.
«Скажи хоть что-нибудь, — умоляют отголоски сознания. — Пожалуйста».
Так отчаянно хочется услышать хоть брошенный огрызок слов: рык на чужой оскал, словесную пощёчину на нелепую шутку. Увидеть злобный взгляд исподлобья: ростовщик не награждает даже этим. Вильям чувствует себя резиновым мячиком, пытающимся пробить стену: сколько ни прикладывай усилий, бей по треснувшей побелке — мячик отскакивает от стены. Человек молчит. Цепляется за представленную руку с нехарактерной смелостью: разум упорно сравнивает это касание с прежним. Раньше Хель боялся дотронуться его руки. Напрягал плечи, когда Вильям впервые потянулся нарисовать узор вязи на его лбу.
Сейчас пальцы Хеля смелые, почти уверенные. Зверь довольно клокочет в груди: ему не нужно подаренное сердце, чтобы знать — его хозяин и сам впивается в чужое с усердием вымышленного монстра.
Связанный без сознания врач остаётся лежать бездумным грузом на пороге комнаты. Вильям оглядывается назад: ничего не забыл. Аккуратный камень — пазл рунического символа перед пещерой — бережно хранится в кармане брюк. Правая рука довольно сгибает пальцы, чувствуя под второй кожей мягкость чужой перчатки. Врата портала открывают перед дверью, и двое шагают в них, чувствуя на мгновение ощущение падения в пропасть.
Там, у подножья Крокса, воздух дарит ощущение убивающей лёгкие духоты. Хочется кашлять. Под ногами журчит ручей: его влага кажется спасительной, воды — кристально манкими. Коснись рукой — и этот лёд будет самым прекрасным мгновением дня. Слух ласкает пение вечерних птиц, нерезкий запах растущих неподалёку растений. Глаза находят исполинскую серую пальму в десятке метров от ручья. Вильям тянет Хеля за собой, как когда-то, волоком по улицам.
Вулкан Крокс сегодня неспокоен. Жара рябит в воздухе растворенным волнами. Из жерла плещется ядовито-оранжевая лава.
Вильям расстёгивает верхние пуговицы рубашки: жарко. Воздух спёрт, потуги ветра едва ли охлаждают разгорячённую от зноя кожу. Он силой тянет напарника вглубь терний. Ожидает увидеть заслонённый плющом камень у подножия вулкана, но вместо этого в земле зияет дыра.
— Открыто, — констатирует факт Вильям, переглядываясь с ростовщиком.
Отнятый у Женевы артефакт бесполезным грузом тлеет в брюках. Они оба даже слишком хорошо знают, что это значит.
Их ждали. Врата святилища разверзнуты, приглашая последних гостей. Это приглашение — к ужину каннибала. Это немое злобное приветствие: «Входите».
— Теомагам — дорогу! — весело восклицает Вильям и смачно шлёпает Хеля по ягодице, толкая вперёд.
Подземный лаз засасывает оба тела в свои объятия. До твердой поверхности под ногами всего несколько секунд свободного полёта. Глухой звук приземления двух тел на мгновение разрезает пространство. Пальцы касаются острых мелких камешков, глаза привыкают к скудному освещению пещеры. Здесь красиво. Как в большом старом гроте.
Как у Хеля — в каждом из его кошмаров.
— У этих извергов определённо есть вкус. Ты посмотри: какое место! — восхищённо шепчет Вильям, не переходя на источник шума. — Я бы хотел сюда вернутся.
Пульс отдаёт в виски тысячей ударов восхищённого сердца. Дыхание спирает. Вильям обходит взглядом сталактиты и сталагмиты, впивается глазами в скудные воды источника под ногами. Холодные, чистые. Зовёт Хеля следом — в развилку налево, едва касаясь чужого плеча. Взгляд замирает в территории крохотных камней. Внутри — мечта любого кладоискателя. Здесь золота настолько, что хватит на пятьдесят лет жизни.
— Ух ты!
Вильям обходит огромный сундук стороной, опускает глаза в песок. Внизу, под ногами, лежит крошечная диадема из платины: ажурная резьба, тончайшие грани, чёрные прозрачные камни с грушевидной огранкой. Пальцы сами просятся взять её в руки.
Вильям касается острых зубчиков с краёв, удерживающих диадему в волосах. Сердце отдаёт неслышимый приказ: Роан. Вильям крутит сокровище в руках и не думает, отправляя её в чип-хранилище. Перед глазами возникает образ смеющегося лица, отводящего волосы рукой в длинной перчатке. Греющая душу улыбка — он подарит эту диадему своей подруге. Если вернётся из приключения живым.
— Кажется, ты такое любишь, — улыбается Вильям, поворачиваясь к напарнику. — Чудные вещи в своей лавке.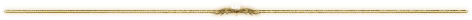
Хель — тишина и холод. Он знает это, смирился так давно, что забыл: кого-то это может ранить. Вильям — грохот сорванной с петель двери, скрежет пальцев по чужим ребрам. Энергия, переливающаяся через край, будто вода в дрожащем в неуверенной ладони стакане. Скажи что-нибудь, - молят чужие глаза. Шальные, черные, радужка сливается со зрачком. Блауз ненавидит тишину и стремится заполнить ее сам — так, как умеет, бросая слова в чужое тело подобием кинжалов.
— Какой-то ты пригашенный. Всё было так плохо? Теряю форму. Возраст. Извини.
Ростовщик вздрагивает, на долю секунды замирая, так и не положив ладонь на выставленный с вызовом локоть. Чувствует, как жар приливает к щекам: за всю свою жизнь Хель краснел всего дважды, и оба раза — из-за человека, сейчас улыбающегося с вызовом. Из-за слов, брошенных со смехом, будто не значащих ничего. Хочется отвести взгляд, признать поражение, но… что-то мешает. Невысказанная просьба во взгляде напротив: ответь! Ответь мне.
И Хель приближается — почти опасно тянет свое лицо к чужому, заглядывает в глаза. Тяжело удержаться на грани и не прижаться к губам, вкус которых Хель все еще помнит. Тяжело не поддаться твари, ворочащейся под ребрами и не заключить своего палача в капкан цепких пальцев.
- Помнишь, как ты сказал? - выдыхает хтоник, кривя губы в неприятной улыбке, - «будь ты девушкой, был бы уже не здесь и не в одежде»? Кажется, мне не пришлось оказываться девушкой, верно?
Чудовище в своей клетке довольно потягивается. Ростовщик позволяет себе кривую ухмылку и видит, как замирает Вильям. В омутах темных глаз вспыхивает удивление и почти страх: напарник не ожидал, что сказанные колкости вернутся. Но хтоник не находит в своих словах ни капли жестокости, так же как в воспоминаниях о прошедшем часе нет ничего, о чем он мог бы сожалеть.
— Да, действительно, — вскидывается Блауз со смехом. — Это должно было натолкнуть тебя на определённые мысли. Чисто технически разница небольшая. Звуковое сопровождение тоже.
Хель чувствует, что краснеет — еще сильнее, уши начинают гореть. В глазах напротив — обещание мучительной боли. И сладость свершившихся поцелуев. Хтоник помнит, как умеют касаться чужие пальцы, как тело может жаться к его собственному, на шее над кромкой удавки наливается багрянцем свежий след. Блауз умеет касаться с нежностью, и ростовщик знает: он бы помнил этого человека всю жизнь. Но жить ему только до рассвета.
— Я помню, как я это сказал, - не останавливается Вильям. - А ты подавился лангустином, закашлял, чуть кони не двинул. А потом? Удивительно, да? Как тесен мир в пределах трёх дней.
Хель приближается еще ближе — пальцы легко скользят по чужой щеке. Невесомо задевают рельеф родинки, подрагивающей каждый раз, когда Вильям смеется. Как сейчас. Хочется отвернуться: слова ранят, царапают шкуру, обычно нечувствительную к насмешкам. Только Блауз умудряется вгрызаться в плоть одним своим голосом — с той же яростью, что и зубами. Ростовщик так не умеет. Чем дольше смотрит в чужие глаза, тем меньше хочется ранить.
- Действительно, - выдыхает Хель, обдавая дыханием смеющиеся губы. Он чувствует запах сигарет, в омутах темных глаз чудятся злость и паника. Хтоник уверен: лишь чудится, разве может Вильям его бояться? - Удивительно.
Искушение слишком сильно — и хтоник позволяет себе последнюю глупость: касание в уголок смеющихся губ своими, смазывающее привкус дыма. Последний раз, обещает себе Хель. Прощальный поцелуй, на который после не будет времени, признание, которое никогда не облекут в слова. Мое, - рычит тварь из подреберья и замирает: предсказание сбывается, больно всем.
Хтоник отстраняется, возвращаясь на безопасное расстояние. Пальцы, держащие трость, дрожат, выдавая волнение, но движение, которым Хель касается чужой руки — уверенное. Не страшно обжечься, когда уже спален дотла. Ростовщик ловит себя на еще одной шальной и безумной мысли: о руки Вильяма ему хочется обжигаться. Хочется резать пальцы о колкость чужого взгляда. Чувствовать дыхание Блауза на своей коже. Тонуть в завораживающем взгляде… не до рассвета. Всегда, - не может произнести даже мысленно. Полный дурак, - смеется голос в воспоминаниях.
Покинуть чужую квартиру оказывается до странности нелегко: на серости покрывала еще мерещится контур близко прижатых друг к другу тел. Стены помнят звучавшие стоны, как, вероятно, и культист, бесчувственно раскинувшийся на полу — словно балахон, небрежно забытый у кровати. Хелю почти совестно: лично ему рыжеволосый незнакомец не причинил вреда, даже наоборот, а в ответ получил только боль несправедливых ударов. Хтоник надеется: врач жив. Но тяжело осознавать горькую истину: за жизнь своего палача Хель расплатился бы не только собственной, но не пожалел и чужие.
Объятия магии — знакомы и привычны, за кратким мгновением падения в пустоте следует приземление: в такой близости от вулкана даже земля кажется горячей. Душный воздух полнится пылью, застревающей в горле. Хель узнает картину, подсмотренную в чужом воспоминании: громада скал, расколотая звенящим ручьем, разлитая по ржавчине зелень с редкой порослью растений. Исполинская пальма бессменным стражем возвышается над ручьем.
Жарко: пот выступает на коже, жилет неприятно липнет к телу. Вильям расстегивает верхние пуговицы рубашки, и Хель поспешно отводит взгляд: без его магии этих пуговиц не было бы вовсе. До странности приятно заботиться о своем убийце.
Блауз тянет ростовщика дальше — к склону, к зарослям колючей травы. И оба они замирают, находя проход открытым. Нет нужны в отмычках, если гостей ждут. Хель помнит: их попытаются убить. Но сердце уверено: безуспешно. Сам он примет смерть из рук лишь одного человека, другим же…
- Теомагам — дорогу! - вдруг восклицает Вильям, ладонь напарника ударяет по заднице — почти оскорбительно, но хочется рассмеяться. Хель помнит, на что еще способны эти руки.
Ростовщик летит в объятия темноты и приземляется без особого изящества, неуклюже заваливаясь набок. Острые камни царапают край ладони, и хтоник шипит сквозь зубы. Глаза быстро привыкают к полумраку… но сердце не сбивается с ритма: серость щербатых каменных стен отличается от той, что преследует под толщей кошмара. Хель безропотно следует за напарником в лабиринт подземных ходов. Эхо тихих шагов разносится по проходу как шорох ветра.
Хтоник кривит губы в улыбке: ему нравится восторг напарника. Что-то подсказывает: Блауз реагировал бы похожим образом на любое опасное подземелье, в котором бывал сам Хель. Кажется, этот человек с озорством ребенка мог бы прыгать по плиткам пола, гадая, какая из них активирует ловушку. Смеяться, в последний момент избегая опасности. Там, где Хель — осторожность, Вильям — сама жизнь. И ростовщик послушно следует за напарником, ведущим во мрак.
Чтобы в следующий миг едва не ослепнуть от блеска золота и драгоценных камней. Хель замирает, оглядывает сокровищницу. Такая могла бы принадлежать дракону из сказок. Воображение легко рисует пикирующую с потолка грозную тень, распахнутые крылья, ряды острых зубов, вырывающийся из разверзнутой пасти огненный столб…
- Ух ты! - выдыхает Блауз, идя вперед. Под тихими шагами перекатываются монеты, Хель невольно любуется тем, как восхищенно напарник оглядывается. Потом вдруг склоняется, обнаружив что-то интересное — поднимает изящную диадему. Тонкая работа, автоматически подмечает Хель, старинная вещь, но сохранившаяся на удивление хорошо. Во взгляде Блауза мелькает нежность — почти обидная. Принадлежащая кому-то другому. Диадема исчезает от ловких рук, и сам Вильям выпрямляется с грацией разжимающейся пружины.
- Кажется, ты такое любишь, - улыбается он, - чудные вещи в своей лавке.
Хель против собственной воли смеется — грустно, как приговоренный за мгновения до казни. Взгляд скользит по золоту, по всполохам драгоценностей… и ничто не кажется интересным. Единственная стоящая ценность в этом месте — сердце человека напротив. Недоступное, кажется хтонику.
- Чудные вещи, - повторяет он, - но какая разница? Я все равно туда не вернусь.
Сказанное без упрека все равно может обжечь. Хель улыбается печальной глупой улыбкой, как слепец, впервые почувствовавший солнечное тепло на коже. Взгляд упорно цепляется за яркие всполохи чужих рук — красные перчатки притягивают, напоминают: этот человек опасен. Этот человек — мой, шепчет чудовище в сколы ребер. И Хель улыбается еще шире — почти пьяной счастливой улыбкой.
Я хочу нарисовать тебя.
Хочу коснуться.
Глупо обещать себе, что поцеловал на прощанье, когда хочется попрощаться вновь. Мысль смешит, заставляет отвести взгляд. В голове вспыхивает строчки стихов, читаемые чужим, до костей пробирающим голосом.
Прекрасное что-то найдя,
Так трудно оставить в покое.
- Нам пора.
Хель отводит взгляд, отворачивается — и ступает во мрак подземного хода. После ослепляющего блеска сокровищ темнота кажется успокаивающей. Где-то в темноте ждет живое существо, нуждающееся в спасении — вероятно, даже два, ведь культисты упоминали о двух жертвах, не об одной. И сами они тоже — где-то за поворотом скалистой породы. За чередой ловушек? За очередным искушением не оторваться от желанных губ.
Хель сворачивает в другой ход и останавливается, ждет, когда его нагонит напарник. Им не помешала бы карта подземных ходов, ведь и вторая дорога ведет в никуда: подземный грот пересекает широкая трещина, уходящая далеко вниз — туда, где полумрак густеет, становясь пугающей темнотой. Под ногами перекатываются мелкие камешки, эхо разносит их перестук, напоминая мерное звучание часов в отеле.
- Не то, - выдыхает Хель, замерев у края пустоты. Мимолетное искушение вонзается под ребро, маскируясь под любопытство: что таится во мраке? Оступиться довольно просто — хтоник чувствует, как слабеют ноги, как тело наклоняется над краем, глаза впиваются в чернь провала. Смерть смотрит в ответ — омутом чужих глаз, ласковая, влекущая.
Ты ему еще нужен, - вспоминает Хель.
И выпрямляется. Сердце колотится в груди, искушение тает под кожей, как воспоминание о жаре чужой руки. Хтоник шагает прочь — со стремительностью опасающегося передумать. Собственная слабость, сомнение пугают его. Он чувствует, как врезается плечом в тело напарника, невольно отталкивая к стене.
- Прости, - снова хочется смеяться, и Хель не выдерживает. На миг замирает у чужого плеча, по инерции завалившись ближе. Нос касается чужих волос — мягких, сигаретный дым уже полностью выветрился. Хтоник тихо смеется.
- Чуть не упал, представляешь? - делится он так, словно рассказывает великую тайну, - вот было бы глупо. Корвус всегда говорит, что этим и кончится: сверну шею на какой-нибудь лестнице, рухну в пропасть… «Помни: приземляться нужно на задницу, хотя тебе все без толку, мешок костей», - голос дрожит, подражая интонациям друга, и смех затихает в груди приятным теплом. Легко забыться, когда Вильям так близко.
Отредактировано Хель (2022-07-14 15:55:22)
Бездна развёртывается перед глазами как исполинская пасть монстра: глубокая, бездонная, молчаливая. В груди замирает удар сердца, скатывается вместе с падающим в обрыв камушком. Вильям уже видел это не раз: реакция слабого тела, пульсирующая в коже судорога, слепота, заставляющая тело покрываться сетью изломов. Это пропасть — одна большая трещина у угла рта и знакомых губ, будто увеличенная мастером магии в сотню раз.
Вильям замирает, покорённый природной красотой. Делает аккуратный шаг вперёд — его едва ощутимо толкают.
— Прости. Чуть не упал, представляешь? — весело оборачивается Хель. — Вот было бы глупо. Корвус всегда говорит, что этим и кончится: сверну шею на какой-нибудь лестнице, рухну в пропасть… «Помни: приземляться нужно на задницу, хотя тебе все без толку, мешок костей».
Вильям смеётся на глупую шутку. Едва ли его напарник видел, как он наблюдал за каждым его шагом, вёл корпусом в невидимом глазу напряжении. Вытянулся в тетиву лука перед выстрелом. Словно ожидал предательски скользкого камня или чужой глупости — чтобы успеть вовремя поймать Хеля за шкирку, как животного. Оттащить назад, дать подзатыльник.
— Про «мешок костей» твоя прекрасная птица в точку. Ты бы питался лучше, и голова бы перед бездной не кружилась. Смотри! Смотри, как красиво!
Вильям тянет Хеля в свои объятия грубым рывком на себя. Пальцы удерживают чужие локти: крепко, непримиримо; и бледное лицо напротив кажется преступно близким. Память ещё свежа: глаза находят слегка отёчные искусанные губы и поднимаются к носу — всё такому же длинному, с горбинкой. В голову приходит глупая идея. Вильям подаётся вперёд.
Его зубы смыкаются на переносице, не принося ни боли, ни смущения. Укус слабый, почти невесомый. Просто дружеская шутка. Вильям смеётся, покоренный собственной глупостью, и шагает в сторону. Вот они уже совсем близко к бездне. Ощущается срыв камней, устремляющихся в пугающую глубину.
— Ну же, посмотри, — ласковый голос касается глубин сознания вместе с рукой.
Чёрные глаза ласкают неравнодушным взглядом. Левая красная перчатка касается кожи Хеля у уха, ведёт вдоль линии нижней челюсти до подбородка. Это касание нежное, почти любовное. Пальцы чуть вдавливаются в скулы, нажимают на подбородок, заставляя рефлекторно приоткрыть рот. Вильям улыбается довольно: он знает, что от его ласки не отдёрнут щёку.
— Чарующая бездна манит тебя, — проникновенный шёпот касается чужого лица. — Доверься ей. Посмотри.
Вильям тянет Хеля ближе. Ещё ближе, прижаться вплотную, коснуться кончиками носов друг друга. Жарко. В вулкане Крокса неимоверно душно. Ещё жарче — от сбитого пульса в висках.
Пальцы ослабляют хватку с локтей Хеля и тянут его к обрыву. Пара лёгких камней срывается с края в пропасть. До уха лишь спустя долгие секунды доносится слабый гул. Вильям удерживает напарника от падения сзади: лёгкое объятие живота, почти невесомое, не выглядит безопасным. Кажется: ещё чуть-чуть — и отпустит. Ещё чуть-чуть — и толкнёт. А Вильям улыбается, склонив голову на чужом надплечьи.
— Красиво, правда? — губы касаются мочки уха.
Прихватывают, оттягивая вниз, дают услышать переливающийся в груди смех. Тихий, утробный. Пальцы находят прорези в шнуровке жилета. Проникают внутрь, касаясь впалого живота.
— Так хочется, да? — шепчет Вильям, касаясь кожи, оглядываясь в бездну. — Сорваться вниз. Ощутить падение, подумать о скудно прожитой жизни. Иные говорят, что жизнь проскальзывает перед глазами подобно иллюстрациям в книге, другие запоминают лишь одно: жёсткое, отвратительно чувство безысходности ситуации. Как думаешь: что было бы у тебя? А правильного ответа нет. Пока не проверишь.
Жаркий поцелуй: вдоль грани лица, языком по липкому от духоты поту. От угла нижней челюсти вверх — к границе спутанных и влажных волос. Вильям чувствует в своих руках хрупкость чужой жизни, власть над чужим сердцем — и упивается ей. В нём ничего от возвышенного, ничего от невинного — издевательство и провокация. Оголённые, почти концентрированные. Он даже не скрывает.
— Нравится? — шепчет Вильям, вновь касаясь подбородка губами. — Хочется упасть?
Шнуровка легко поддаётся чужим рукам, оголяет острые рёбра. Вильям разворачивает Хеля опять к себе — рывком, как раньше. До края бездны остаётся несколько мелких шагов. Он оттесняет Хеля ещё на один. Пятки ростовщика оказываются почти на весу. Вильям улыбается коварно, демонстрируя всей своей сущностью жажду игры. Наступает, заставляя потесниться назад.
— Слышал про «падение на доверие»? — вкрадчиво звучит голос, пока пальцы переплетаются в другие ладони. — Давай проверим, насколько ты мне доверяешь. 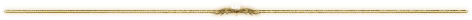
Спрячемся, будем слушать, как волны скрывают след,
Расскажи, и разряженный воздух заполнит звук:
Растворён, я в тебе растворён, меня больше нет.
Сохрани на двоих одинаковый сердца стук.

Сердце сбивается с ритма, когда Вильям не отталкивает, а наоборот — удерживает возле себя. Он не знает, но ни одна бездна не сравнится с этими глазами: мрак, таящийся в глубине, затягивает так, как не смогла бы сила притяжения. Хель тихо смеется продолжением глупой шутки.
- Смотри! Смотри, как красиво!
Хель смотрит — в лицо человека напротив, прижимающего ближе. Чувствует цепкость пальцев на своих руках, впивающихся с уверенностью капкана: мое. Дыхание обжигает губы, и Хель улыбается: красиво. В глазах напротив обещание ночных кошмаров, рокот срывающихся с цепи чудовищ, волны, влекущие к самому дну. Чужие зубы смыкаются на переносице Хеля — легко, невесомо. Не больно. Он прикусывает губы, чтобы сдержать неосторожный вздох. Смех Вильяма мешается с шорохом перекатывающихся под ногами камней.
- Ну же, посмотри.
Весь мир заключается в чужом взгляде, вся вечность времени. Хель наслаждается нежностью этого взгляда, тем, как ладонь Вильяма ведет по коже — оставляя след колких мурашек. Боль ожога смазывается лаской перчатки. Больно, но голова клонится набок, чтобы сильнее вжаться в заботливо подставленную ладонь. Приятно.
- Чарующая бездна манит тебя, - шепчет Блауз, и Хель улыбается — легкой, пьяной улыбкой. Почти красивой. Боль пульсирует в каждом вдохе, когда напарник тянет к себе — еще ближе, плотнее, так что искушение замирает каплей крови, выступающей в уголке губ.
- Посмотри.
Хель знает: его бездна — глаза напротив. И он сорвался две ночи назад, когда пальцы цеплялись за чужие плечи. Он помнит то, что Вильяму не следует знать: тепло первого неслучайного объятия. То, каким важным, необходимым было тогда прижатое близко тело. То, как голос Блауза пробивался сквозь толщу кошмара, напоминая: ты не один. Хель не представлял, что может существовать человек, которого он не захочет оттолкнуть.
Существует. Тот, кто хочет столкнуть его — с кромки обрывающейся жизни.
Тот, кто тянет в сторону, подводя ближе к краю пропасти настоящей. В ней все коварство жизни, опасность, сокрытая темнотой. Что угодно — за пеленой непроглядного мрака. Рокот подземных вод, сколы костей тех, кто сорвался с обрыва раньше. Склеп, из которого уже не выбраться, в котором не найти ни одной гранитной таблички. Дыхание замирает в горле. Хель смотрит, не отводя взгляд.
Чужое дыхание касается волос, голова Вильяма на плече Хеля — словно на плахе. Ростовщик не смеет пошевелиться, не понимает, чего в этом чудовищном объятии больше — радости или пытки. Голос напарника режет кожу, губы ведут вдоль края нижней челюсти. Хель чувствует себя пойманным в ловушку, запертым в капкан, из которого нет спасения. Пальцы мучителя впиваются в кожу, минуя шнуровку жилета — ведут по изменчивому узору чернил, будто обманчиво нежное лезвие.
Хтоник знает, чувствует: напарник упивается властью. Там, где Хель постарался бы не ранить, Блауз играет на самой границе мешающихся чувств. Так хочется, да? Сорваться вниз. Ростовщик мечтает закрыть глаза, но не может. Чужая просьба на самом деле приказ убийцы. Смотри. Не отводи взгляд. И Хель вглядывается во мрак расколовшей землю трещины, хотя видит не пропасть, а глаза Блауза. Темные омуты, в которых не бесы пляшут — настоящие монстры, мечтающие впиться в чью-то плоть. И ростовщик понимает то, от чего бежал столько лет: смерть становится искушением. Не только кошмаром, но и спасением от него.
Кажется такой желанной, что тело невольно напрягается и жаждет сорвать вниз.
- Нравится? Хочется упасть? - издевается Блауз. В нежном голосе откровенная провокация. Он наслаждается властью, упивается чужой пыткой, сотворяемой каждым прикосновением.
Зачем ты это делаешь?
Потому что таков он весь — игра на самой грани. Тот, кто ненавидит клетки, но обожает заключать в них других. Хель поддается со смирением кающегося грешника. Вильям рывком разворачивает хтоника к себе, подталкивает еще ближе к краю — сердце сбивается с ритма, ужас застревает в горле.
- Слышал про «падение на доверие»?
Еще одним крохотным шагом ближе к бездне за спиной. Вильям теснит ростовщика дальше, как хищник, жаждущий насладиться страхом жертвы до того, как впиться в подставленное горло. Пальцы в красных перчатках вплетаются в обнаженные ладони с жесткостью режущих плоть кинжалов. Цепко. До опасного невесомо.
- Давай проверим, насколько ты мне доверяешь.
В голосе человека напротив — веселость палача, искренне наслаждающегося своей работой. Хель замирает, чувствуя, как напрягается тело на самой кромке падения. Сердце колотится, как чудовище, рвущееся из клетки. Тварь в подреберье недовольно рычит: опасно. Страшно.
Соблазнительно.
Хель срывается — но не в ту бездну, над которой зависло тело. Он тянется вперед, преодолевая и без того небольшое расстояние между телами. Впивается в чужие губы со всей доступной нежностью. Еще один прощальный поцелуй, клянется себе ростовщик. Последний. Тело дрожит, едва удерживаясь в подобии хрупкого равновесия. На вкус чужие губы — как сладость меда в горячем чае, как разговор, ставший до постыдного личным.
Доверие — хрупкая нить, удерживающая на грани, но даже хрупкость способна ранить. Хтоник целует своего палача так, словно уверен: тот сам столкнет его вниз. Не дождется рассвета. Нельзя желать того, кто жаждет тебя убить — урок, которого не прочтешь ни в одной книге. Нельзя, - шепчет мысленно Хель, слизывая кровь с вновь потревоженных ссадин, каждым движением губ силясь признаться в том, что никогда не облечешь в слова.
Пальцы покидают чужую руку — лишь для того, чтобы протянуться к плечу, провести по хрусткой ткани рубашки, чувствуя обжигающее тепло живого тела под ней. Коснуться горячей кожи за распахнутым воротом, скользнуть по изгибу шеи. Хель понимает, что тоскует по этому человеку, даже когда всего на миг разрывает поцелуй.
И прижимается снова — с отчаянием, с хрупкой уверенностью в том, что его удержат на этой грани. Не потому, что до рассвета еще целые часы. Потому что разум жаждет обмануться, поверить, что за издевкой скрывается капля искренности. Что забытый в чужой квартире час был не постыдной тайной, а драгоценным сокровищем.
- Столкнешь меня? - шепчет Хель в поцелуй. Провоцирует в ответ и тянет Блауза еще ближе — так, чтобы упасть можно было только вместе. Даже зная, что если земля уйдет из-под ног, руки разожмутся сами.
Ты — моя пропасть, думает Хель. Бездна, из которой не выбраться. Свободное падение закончится на рассвете — пулей в висок. Или распарывающим горло лезвием. Хель не знает. Ему все равно.
- Я потяну тебя за собой, - лжет хтоник. Так откровенно, что ни на минуту нельзя поверить. Не получится. Губы шепчут и прижимаются снова — к чужим, еще хранящим горьковатый привкус дыма. Похожий на привкус отчаяния, заставляющего дрожать ладонь.
- Может, мы оба умрем, - шепчет Хель эхом чужих слов. То же самое говорил Блауз во мраке своего номера. Перед тем, как металлом пистолета коснуться чужой кожи. Времени нет, но ладонь сама ложится на щеку напарника, пальцы нежно ведут от контура губ к подрагивающим ресницам, пересекая контур родинки. Хель ловит себя на мысли, что ему нравится каждая черточка бледного лица. Насмешливого.
Губы скользят по тонкому контуру синяка, срываются к шее и прижимаются к пульсу бьющейся жилки. Еще один прощальный поцелуй. Сколько их, оставивших невесомые печати на чужой коже? Слишком много, думает Хель, зная: они бесстыдно растрачивают время.
Слишком мало, понимает хтоник, ведь его сердцу биться осталось совсем недолго.
Отредактировано Хель (2022-07-16 17:57:04)



Зрачки предательски расширяются. В тёмных радужках глаз этого совершенно не видно.
Завораживает.
Вильям втягивает воздух в грудь, забывая выдохнуть. Замирает на мгновение, покорённый увиденной картиной. Пленяет: каждая уверенная приторность фраз, каждый жест и провокация во взгляде. Вильям смотрит как мастер на созданное творение — высеченное из камня произведение искусства. Хочется прикоснуться к щеке ростовщика, улыбнуться, сказать: «Смотри, это я тебя сотворил. Я». Погладить свой рождённый из мрамора силуэт, похвалив: изящная статуя сбросила всё ненужное, оставила лишь то, что может сжигать дотла. Это так мучительно больно. Это так мучительно прекрасно.
Вильям зажёвывает нижнюю губу и выдыхает. В его взгляде читается искреннее восхищение, не прикрытое маской обыденности. Он может врать словом, глазами, телом. Но не хочет, предпочитая случаю неуместную ему откровенность. Так ли важно сейчас быть честным с человеком напротив? Намного важнее — быть честным с самим собой. Сердце пропускает удар. Язык чувствует привкус солоноватой крови, губы ещё саднит от растревоженных ран — этого ничтожно мало, чтобы не смотреть в упор. Чтобы остановиться.
Когда-то Вильям смотрел так на череп в лавке. Покоренный каждым узором, покорённой общей картиной в целом. С желанием прикоснуться, стремлением обладать. Патологической страстью впиться губами в вываренные зубы, впечататься собственными — до стука эмалей друг о друга. Запустить пальцы в прорези скуловых костей, вжаться собственным лицом, удерживая неживую любовь на весу.
Сейчас он смотрит так на человека. Во взгляде — искренность очарованного до глубины души ментального мага, словно ударенного своим же колдовством: взгляд совершенно глупый, ошалелый. Вильям помнит как сейчас. Память стыдливо-ярко вызывает в голове фрагменты первой встречи.
—Что касается соблазнения… боюсь, здесь я дам фору даже вот этому вот столу, — ростовщик хмыкает и костяшками пальцев стучит по столешнице. Звук кажется неестественно громким по сравнению с голосом.
Как уместно это влезает в голову, как сладко щекочет воображение. Вильям считает, что люди — это музыкальные инструменты. И его простая флейта вдруг внезапно даёт звучание арфы. Ожидает ли она этого сама от себя? В движениях напротив такая неназойливая лёгкость и уверенность, что кажется: да. Вильям подаётся: втягивается во внезапный поцелуй, ослабляя хватку. Подаётся, впервые понимая:
Это так приятно.
Сжать в ответ пальцы на плечах. Вытянуться вперёд, переступив к опасной зияющей бездне, слышать, как камни срываются со склона вниз, ударяясь о стены в полёте. В касаниях другого человека — нехарактерная нежность и чувственность. Как необычно найти в ящике Пандоры то, что совсем не ожидаешь. Что даже не можешь предположить.
Ладонь выскальзывает из руки, чтобы касаться шеи. Чужие пальцы с лаской врезаются в поверхность кожи, ведут щекоткой по разгорячённому телу вдоль ворота рубашки. Отодвигают её — хочется податься вперёд. Подставить ключицы чужой ладони, повести плечом, обнажив выступы костей. Впереди так мало места. Впереди опасность обрыва.
Но Вильям знает: он уже упал в пропасть.
— Столкнешь меня? — шепчет Хель в поцелуй.
Вильям не может ответить. Рвано дышит, когда ему позволяют, жадно глотая ртом воздух. Смотрит глазами как влюблённая в байкера старшеклассница.
— Я потяну тебя за собой, — и снова поцелуй.
— Может, мы оба умрем, — и эта мысль уже не кажется такой страшной.
Вильям закрывает глаза, чувствуя на лице тепло чужой ладони. Она касается щёк, ведёт вверх до век, задевая родинку. Вильям тянется лицом к этой ласке, клонится головой. Родинка, слабое место, — приливший к животу жар сравнится лишь с огнём внутри сознания. Срывает крышу: в голове звучит назойливое требование обладать. Сознание подсказывает: человек напротив слабее.
Делай с ним что хочешь.
Плевать на время. Плевать на опасность. Ходить по лезвию ножа — так приятно.
Пальцы сгребают чужие плечи в охапку. Вильям подаётся назад, утягивая Хеля за собой: подальше от пропасти, от зияющей опасности упасть. Спина касается гладкой поверхности природного камня: в неё так удобно спустя мгновение впечатать тело другого человека, перевернувшись. Нависнуть сверху, прижав ладонями у локтей.
В ответном поцелуе не будет ни нежности, ни аккуратности. Страсть как оголённый провод. Страсть как голод хищника, которого раздразнили. Вильям чувствует впервые: на его игру ответили достойно. Он хотел издевательски пощекотать другому нервы, проверить на прочность, упиваться властью. Но проверили его — и он сорвался.
Проиграл. Попал в ловушку, в которую сам не единожды ловил других. Сердце назойливо обливается кровью: соперник играл без грамма ментальной магии. Осознание собственной слабости заставляет ненавидеть.
Себя.
Его.
Чужое тело. Которое хочется порвать. Которое хочется раздавить. В которое врезаешься с безумием бешенного хищника: гневным поцелуем в шею, укусом в ещё свежую рану. С которого сдираешь шнуровку жилетка и злобно ругаешься под нос, когда она не поддаётся, путается в предательски важный момент в руках. Вильям горячо напирает в обуявшей страсти: прижимает к холодному камню тело, которое подхватывает под бёдра, заставляя сомкнуть чужие ноги у себя на талии.
Хель выше — всего ненамного. Достаточно, чтобы достать до его подбородка губами, прикусить кожу на кадыке, уткнутся носом в шнурок амулета на шее. Коснуться языком по острым станам ключиц — там, где обычно касаются лишь руки. Тело приказывает Хеля мучить, терзать в своих объятиях, чтобы Хель понял: это горько. Это больно — всё, что происходит.
Вильям чувствует, как подрывает его самообладание, как оно почти выводит его на грань безумия. Он помнит: нельзя. Не сейчас. Голос контроля назойливо вопит о неправильности происходящего. Здесь и сейчас — они пришли не за этим. Здесь и сейчас…
Боль вырывается из груди стоном. Разочарованным, горьким, протяжным. Так стонут не от удовольствия — от горя. Грешники на дыбе. Те, кто тянулся за мечтой, и вдруг внезапно она от них ускользнула. Оставив на ладони саднящий след: «почти поймали». Почти.
Вильям упирается в шею Хеля головой. Тихо стукается ему лбом в грудину, выражая почти разочарование, смазанное горем. Вильям сдержался в последний момент, сдержался, — но от этого горько, будто пришлось оторвать от себя кусок мяса.
Руки мягко сначала приподнимают Хеля от себя, а потом опускают на «землю». Вильям не может на него смотреть: с минуту делает вид, что отряхивает рубашку от царящей в склепе пыли. Так глупо.
Но сейчас это кажется самым правильным.
Вильям подталкивает напарника к выходу от пропасти. Ничего не говорит: память в собственную защиту вспоминает лишь то, что Хель предательски много молчит, когда он хочет слышать его голос. Можно облачиться в эту мысль, как в кольгучу, и идти с ней дальше. Даже позволить положить себе ладонь на плечо другого и слабо направить в нужную сторону.
Говорить до безумия сложно, и Вильям молчит. Обнимает себя за плечи перед последней развилкой, и шагает в ведущую вниз лестницу, опережая Хеля лишь на пару шагов. Лестница круто ведёт направо, выходя в подножии Крокса в большой подземный зал.
И уши слышат ещё на подходе: оно. Они пришли.
Вильям задерживает Хеля, не позволяя ему выйти из зоны невидимости. Лестница, загороженная с одной стороны стеной, даёт возможность лишь подглядеть из-за угла. И увидеть.
Двести метров замкнутого пространства глухой пещеры. Свет зажжённых факелов на стенах, ритуальные песнопения на языке, понятном лишь избранным. Жертвенник в самой середине стола, на котором уже лежит пронзённое кинжалом тело женщины. Стекающая по камням кровь, которой культисты умывают лицо, вознося в небо десятки молитв. Глаз находит — клетку с му-шу. Животное ослаблено, почти неживое. Длинный хвост протягивается через решётки клетки и пассивно бьёт по участку камня рядом. Вильям поворачивается к Хелю назад. Его пальцы тянутся к воротнику рубашки, расстёгивают дорожку пуговиц дальше: первую пуговицу, вторую, третью… Голос дрожит. В глазах — эхо прерванной страсти.
— Мне нужна твоя помощь.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-17 07:13:20)
Ты живешь в моем сознании и приходишь в страшных снах,
Прячешься в моих ладонях и живешь в чужих чертах.

Каждое прикосновение ранит.
Хель знает: если под ребра вонзится нож, больно будет не так. Не так, как от этих рук на коже, как от собственных прикосновений к лицу человека напротив. Дыхание перехватывает, в грудине застревает страх, смешанный с восхищением. Губы ведут по контуру чужих синяков, невесомо касаются, целуют снова и снова… Хтоник не представлял, что способен на такое.
Вильям молчит — такая редкость, что хочется смеяться. Беззлобно, без капли сладостности победы. Хель не чувствует себя победителем.
На дне чужих глаз — безумие, ужас, восхищение. Красота такая, что ни в жизни нарисовать! Человек, способный сыграть любую роль, способный обмануть не только жестом, но и мыслью, сейчас смотрит с искренностью умирающей птицы. На Хеля так никогда не смотрели: будто он на целый бесконечный миг смог стать целым миром. Сердце замирает и срывается с новой силой. Больно так, что почти невозможно дышать.
Ростовщик помнит любовь во взгляде человека, впервые оказавшегося в его лавке — человека, ласково берущего в обтянутые красным ладони череп, который самому хтонику кажется всего лишь безделушкой. Сейчас этот человек смотрит так на самого ростовщика…
И Хель улыбается. Пальцы ведут по чужой щеке, ласкают кожу, невесомо касаются подживших ссадин. В каждом мягком движении пальцев — признание, которое не сорвется с губ. Хтоник не знает: каждый вспоминает свое. Но себя он чувствует раненым, перебитым сильнее, чем сумела бы любая пропасть. Слова стихов, прочитанных в темноте, впитались в каждую линию чернил на его коже. На шее горят свежие синяки и подживающий след чужих зубов.
Вильям прижимается ближе, отвечает на поцелуй — так, словно признает поражение, и игра, больше напоминающая битву, заканчивается. Хель знает: никто из них не упадет, никто не умрет… не сейчас, когда оба мертвы достаточно. В глазах напротив обещание всего, чего не достичь за целую вечность. Моя смерть, думает хтоник и слизывает кровь с чужих губ. Моя жизнь, - вторит эхо в его голове.
Он смотрит в ответ, впивается во взгляд человека напротив… его демона, его палача, видения. Боль исчезает, оставляя чистое наслаждение, наполняя каждый удар сердца блаженством — таким, что, кажется, тело просто не выдержит. Хтонику наплевать. Он знает, что не одернет ладонь, даже если начнет рассыпаться прахом. Он знает, что его не отпустят в бездну одного.
И чувствует, когда чужое тело срывается так же, как его собственное.
- Что ты… - тихо смеется Хель, когда Вильям тянет его прочь от обрыва. Голова кружится, перед глазами все плывет, сливаясь во мрак чужого взгляда. Хтоник тихо стонет сквозь зубы, когда спина ударяется о камень стен. Напарник целует в ответ — жадно, пьяно, так, что по телу пробегает дрожь. Не болезненная, призывающая прижаться еще ближе, хотя куда ближе?
Хель знает: нельзя, не сейчас…
Но с готовностью подставляется под жар ладони, зная: этому человеку можно все. Каждую слишком острую боль впивающейся под ребро ладони. Каждое колкое касание зубов, прижимающихся к шее. Снова и снова — сбитые стоны в поцелуй. Пальцы сжимаются на чужих плечах, обвивают шею напарника, ведут по спине, лаская сквозь хрусткую ткань рубашки. Мое, срывается каждая мысль в голове ростовщика. Чужие пальцы впиваются в кожу, раздирая шнуровку жилета, скользя по выступающим косточкам ребер, вспарывая кожу с безжалостностью палача. Хель задыхается, подаваясь ближе, пальцы сами срывают кромку чужих пуговиц, скользят по коже Блауза.
Времени нет, помнит Хель. У них есть работа, знает он. Но снова тянется к настойчивой ласке чужих губ, к кровящим ссадинам чужой кожи. Обычно молчаливый, сейчас он срывается стонами сквозь стиснутые зубы, когда губы напарника скользят по его шее, по свежим следам синяков, по кромке ярких пятен, оставленных совсем недавно.
Чужое тело — так близко, влекущее, настойчивое… Хтоник отбрасывает сомнения так, как сбросил бы плащ, если бы сейчас мог хоть на мгновение отстраниться от мучительного объятия. Ему жарко, пульс стучит в висках, руки снова и снова скрываются по чужой коже.
Хтоник теряется в каждом ощущении, в каждом движении — вот тело Блауза приникает еще ближе, кожа к коже, вот поцелуй вонзается поверх шрама зубов. Весь мир — это Вильям и его руки, сплошная мучительная боль, от которой нигде не скрыться. Да и не хочется.
И когда Вильям замирает, едва заметно дрожа под чужой рукой, срываясь болезненным стоном, Хель чувствует: это хуже смерти. Оба они часто дышат, нагретый вулканом воздух застревает в горле. Хтоник чувствует остывающее дыхание на своей шее, касание чужого носа к сколам ключиц…
Вильям молчит, отстраняясь. Выглядя так, словно из них двоих казнь на рассвете предстоит именно Блаузу. Он торопливо поправляет одежду, и Хель беззвучно стонет сквозь зубы, опираясь о стену. Голова все еще кружится, собственное тело кажется непривычно тяжелым. Рука тянется подобрать упавшую трость… и промахивается. Хель чуть не падает на колени и тихо обреченно смеется. Знает: это горечь несвершившейся истерики. И ужас внезапного осознания — за новое касание Хель заплатил бы не только своей жизнью.
Страшно вдруг понимать, что ты такое же чудовище, коим когда-то считал другого. Способное ради эгоистичного удовольствия обречь кого-то на муки. И… Хель выдыхает. Поднимается, сжимая трость в пальцах. Опирается на нее при шаге — ощутимо. Боль не дает выпрямиться. Страх мешается с восхищением. Он вдруг понимает, что действительно сломан.
Тварь в подреберье урчит с довольством и горечью разочарования. Жажда прижаться к чужому теплу никуда не делась. Хель помнит: есть дело. Чудовище знает только тоску по собрату. Желание впиться в чужие опухшие от поцелуев губы кажется невыносимым.
Невыносимым оказывается видеть, как Вильям срывается на узкую лестницу — первым, обхватив себя за плечи. Кажется… уязвимым. Просто человеком. Он ножа его не защитят ни перчатки, ни узор магической вязи. Не произнеся ни слова. Тишина вдруг оказывается пыткой.
Всего несколько шагов: и реальность заставляет вспомнить о себе. Вильям удерживает хтоника на месте: пришли. За поворотом лестницы скрывается пещера, залитая теплым светом факелов. Почти приятным, если бы не отбрасываемые тени на стенах, если бы не культисты, кажущиеся лишь продолжением собственных теней. Темные балахоны скрывают силуэты и лица. И Хель знает: это к лучшему. Ранить, глядя в лицо, гораздо сложнее. Он готовится к тому, что придется драться, хотя боец из него неважный.
Жертвенник уже залит кровью - не успели. И Хель чувствует, как совесть колет в бок. Он знает, почему не хватило времени. Знает, что сам виноват, потому что каждый раз, когда нужно было поторопиться, опрометчиво обнимал своего будущего убийцу. Как будто это может его оправдывать. Чужая кровь сливается по камням, культисты тянутся к ней омыть руки и лицо, гул молитв мешается в какофонию звуков.
Хель приникает к каменистой стене, делает вдох, силясь прийти в себя. Он видит животное в клетке - едва-едва похожее на дракона, ослабевшее, измученное. Совесть колет под ребра: из-за тебя.
А потом взгляд возвращается к Вильяму. Тот оборачивается, быстро расстегивая пуговицы на рубашке… Хель знает: сейчас самое неподходящее время следить за тем, как обнажается кожа в вырезе воротника. Не время вспоминать о том, каким мучительным бывает искушение.
- Мне нужна твоя помощь, - выдыхает напарник. В дрожащем голосе слышится… шорох срывающегося водопада. В глазах — мрак неумолимой бездны. Хель сжимает пальцы на рукояти трости, разум его тонет в гуле чужих голосов, тени пляшут перед глазами…
Он поддается снова, прислонив трость к стене, — руки сами тянутся к человеку напротив, не спрашивая, что именно нужно. Находят кромку пуговиц и преодолевают ее. Мимолетно, сладко касаются излета ключиц с набухающим багровым следом поцелуя. Хель мечтает умереть от стыда на месте. Не время! Нельзя.
Пальцы находят чужую ладонь — заминка так коротка, что почти незаметна. Ростовщик помнит, как Блауз протянул ему руку, как в чужих глазах горело предвкушение приключений. И он пожал тогда эти пальцы с сомнением, с ощутимым нежеланием — и ладонь дрогнула, желая вырваться из капкана. В этот раз боль кажется едва ощутимой, будто за последние дни Хель приобрел к ней иммунитет — кажется, каждое новое прикосновение к этому человеку оставляет на коже незримый след чужого присутствия. Хель скользит пальцами по чужой ладони.
По ладони, к которой хтоник прижимался губами. Прикосновения которой сперва избегал, а затем с готовностью приникал ближе. Теперь — касается легко, ни капли не боясь алой ткани. Делает маленький шаг вперед, почти не удерживая напарника, но на миг касаясь его губ своими. Прощальный поцелуй, - клянется себе ростовщик. Снова. Последний. И касается еще раз, чтобы затем отвернуться. Тихо. На грани дыхания.
- Прости, - в тихом голосе слышится обреченный смех и искреннее раскаяние. Не удержался. Хочется еще. Плевать на последствия.
- Прости, - повторяет Хель, как безумец, и целует снова. Дыхание сбивается, ладони нежно касаются чужих щек. Последний раз. Последний!
Хель знает: может сорваться снова. Это… страшно? Чудовищно?
Это так глупо. Ведь за спиной напарника Хель видит танец теней на тронутом ржавчиной камне стен. Пальцы слепо находят рукоять трости.



Пальцы находят чужую ладонь: в ней лёгкое касание жизни, едва уловимое, чтобы пробить током насквозь. Вильям мягко улыбается, цепляет облачённым в перчатку мизинцем чужие руки. Легко, невесомо: под тканью прикосновение к чужой коже кажется слабым отблеском прикосновения настоящего. Пальцы с заметными усилием сгибаются: так даёт о себе знать украденная вещь у кожи.
Украденная под самым сердцем. Спрятанная от насмешки прежнего хозяина.
— Прости.
Поцелуй не дарит ни огня поверженной страсти, ни чувственности минуты ранее. Вильям смотрит в лицо напротив, в нём — сущность вечно проигравшей стороны. Обманчиво скрытая опасность вновь прячется под маской грустного торговца лавки. Память помнит: этот человек умеет быть провокатором. Таким, за которым не страшно сорваться в бездну, разделить смерть приключения на двоих, на которого можно смотреть с восхищением. Оказывается, кроме изнуряющего молчания, когда так хочется слышать хоть что-то, есть слова, что впиваются в кожу десятком острых шпилек. Которые могут ответить достойно — так, что обожжёшь о них руку.
Но сейчас перед глазами обычный Хель. Прежний. «Почти», — поправляет сознание, когда вспоминание возвращает и боль отдернутой руки при встрече, и излом фигуры при прикосновении ко лбу. Недоверчивый взгляд, поворот корпуса в сторону полок из книг — Вильям всегда чувствует, когда человек колеблется. Ростовщик и сейчас отворачивается, будто стыдится проявленной несдержанности.
Вильям горько улыбается в ответ. Он знает: перед смертью особенно хочется надышаться.
Зверь в груди почти ощутимо ревёт от тоски, от боли, царапает клетку собрата. Он знает: ему будет больно. Больно будет всем. Всего больнее — тому, кто так жаждет смерти. Кто внешне — сама опасность в резких линиях чернил на коже, но в жизни — надломленная ветвь, оголённые провода. Длинная когтистая лапа тянется до Чудовища за решётками рёбер, жаждет прикоснутся. Почти плачет — Зверь плакал бы, если бы умел. Он чувствует: прощание скоро. Длинные когти касаются плеча собрата: не царапают — гладят. Кумир вскоре останется одинок, а поклонник ещё не успел насладиться его компанией. Руки хозяина отрывают почти насильно. Запирают в груди — впервые в жизни. Зверю больно. Но кому-то будет ещё больнее.
Вильям смотрит в лицо напротив. Не закрывает глаза, даже когда на губах смыкается поцелуй, очередной, «последний». Чужие ладони берут его лицо в подобие нежной ласки. Вильям ловит себя на мысли, что хочет запомнить всё: серые глаза — не такие, как у Фрэнсис. Неправильное лицо, лишенное эталонной красоты: острые челюсти, впалые щёки, кривая улыбка в нехарактерно широком рту. Пальцы, которые не скрывает кожа полуперчатки: Вильям усмехается про себя, не жалея, что украл.
Хочет запомнить ласку. Почти любовь. Почти — его напарник не сказал ни слова. От этого на сердце скребут кошки, разум мучительно выворачивается в пытке. Оказывается, слова всё-таки важны.
Вильям об этом никогда ни с кем не поделится. Разве что с Роан. Это будет совсем скоро, быстрее, чем он подумает об этом.
— Про череп, — внезапно говорит Вильям, когда от его губ отрываются. — Ты изучал его протомагией, но это не то. Те руны: у меня ведь такие же. Я знаю, что это.
Вильям улыбается горько, клонится головой к чужой ладони. Касается пальцами сам: в нежной ласке, в которой и чувственного, и любовного меньше, чем в ослабленных пальцах.
— Это ментальная магия и магическая вязь. Сейчас они погасшие, потому что адресат умер. Просто…чернила на черепе. Эти символы высекли, заполнив их чем-то важным, запечатав, как письмо в конверте. Это письмо, слово…память. Адресованная кому-то одному. Я никогда не смогу прочитать эти руны. Не сможешь ты, не сможет кто-то другой. Потому что прочесть их мог лишь тот, кому они были оставлены. Да, сейчас этот череп безделушка. Но разве чья-то память — не сокровище? Разве эхо чьих-то воспоминаний ничего не значит?
Вильям клонится лбом к чужому носу. Надеется: они смогут выбраться из этого подземелья живыми. Обещание смерти саднит на языке отвратительным якорем: не хочется убивать. Вильям бросил слова на ветер, а теперь горько о них жалеет.
Но имеет ли он права разочаровывать?
— Смотри.
Времени мало. Вильям стягивает с тела рубашку, бросая её на землю. Поворачивается спиной, упираясь в стену головой: на спине — антрацифия его расы, то животное, что всегда рядом с ним. Длинный дракон, гоняющий по телу звезду Архей, с разверзнутой под лопаткой пастью. Символ едва светится в полумраке лестницы: кожа дракона переливается серой чешуёй, почти зримо колышутся его длинные усы от морды. У дракона злой взгляд: ошалелый, сумасшедший. Глаза — две бусины изумрудов. Звезда Архей крохотная, жёлтая, но она быстрее: едва пасть животного желает сомкнуть зубы на её лучах, она ускользает в сторону.
— Не думаю, что «гуманные методы» помогут нам остаться в невидимости. Разве что ты сможешь обратиться в голубя и доставить эту клетку мне в руки. В противном случае — смотри. Мы можем создать хаос. Воспользоваться замешательством, чтобы добежать, схватить клетку и просто дать дёру отсюда. Можешь этих тварей-культистов связывать, обезоруживать, убивать — делай с ними что хочешь. Выиграй мне время. Я добегу быстро. Тут недалеко. А это… — Вильям касается пальцами собственного плеча.
Он не видит, куда достаёт рукой. До дракона несколько сантиметров голой кожи. Губы тяжело выдыхают в преддверии признания несостоятельности.
— Я сам его извлечь не могу. Он вредный. Даже если прикажешь — зависает в воздухе всего на пару секунд и обратно. Он…охотник. Но ты можешь выкурить его отсюда. Достань, — настойчиво просит Вильям, оборачиваясь на голову Хеля. — Вырви звезду из кожи и брось её в толпу этих культистов. Не тяни, пожалуйста: это больно. И сам будь осторожен: только вытянешь — звезда станет горячей и обожжёт тебя. Кидай — и можешь начинать, я тут же сорвусь. Только я тебя прошу: не выходи из укрытия. Будь осторожен.
Будет время, когда закат кровавый
Сменит мёртвый рассвет,
И мой демон придёт меня отправить
За безумием вслед.

Хель чувствует себя безумцем — одним из самых опасных, ведь промедление смерти подобно. Но руки сами тянутся к человеку напротив, нежно скользят по щекам. Невысказанное признание застревает в груди, как зазубренное лезвие кинжала под ребрами. Больно. Страшно. Невозможно остановиться.
Каждый вдох выламывает ребра, когда хтоник вглядывается в глаза Блауза — темные омуты, в которых все видения оживают. И на целый долгий миг кажется: они переживут эту безумную ночь. Оба. Чудовище обреченно ревет в своей клетке — жаждет коснуться, жаждет чужого тепла. Еще один поцелуй касается чужих губ, давно растерявших привкус дыма, с сетью подживших ссадин. Хель не помнит, как раньше жил без этого человека. Кажется, что только сейчас он вообще понял, что значит жить.
Он вспоминает череп в лавке. Вспоминает… то, что никогда не имело для него значения. И вдруг понимает — все. Человек напротив делится разгадкой головоломки так, словно… память — и вправду сокровище. Ты меня не забудешь, думает хтоник, и это стоит всего. Он понимает: почему череп защищала вязь сложных чар, почему Вильям вел пальцами по следу рун на кости. Каждый жест.
Хтоник с тихим вздохом, больше похожим на болезненный стон, движется ближе. Не хочется умирать. Но мерзкий страх скребется в клетку ребер когтистой лапой — стоит ли чего-то жизнь без приближающейся гибели? Стал бы он ценить каждый миг сейчас? Осмелился бы касаться так отчаянно, не обращая внимания на колкость мурашек вдоль позвоночника, на жар, умоляющий одернуть ладонь. Больно. Но от прикосновений к этому человеку Хель хотел бы страдать целую вечность.
Разве эхо чьих-то воспоминаний ничего не значит?
- Я…
Слова застревают в горле: он не знает, как их произносить. Никогда не произносил. То, что тварь в подреберье признать смогла в первый миг встречи, сам он не способен даже осмыслить. Я хочу знать тебя целую вечность. Я хочу никогда не умирать. Чтобы никто из нас никогда не умер. Хочу каждую боль, что ты даришь своей рукой. Каждый укус твоих зубов. Каждый мучительный поцелуй. Хочу темноту, наполненную стихами. Смотреть, как ты пьешь розе, кривя губы в улыбке, слушать, как смеешься — надрывно, запрокинув голову. Как можешь быть… настоящим. Находить красоту в каждом твоем движении.
- Я…
- Смотри.
Не успевает. Вильям стягивает рубашку и отворачивается, упираясь лбом в каменную шероховатость стен. Хель смотрит: на бледной спине ниже скромного знака Сигмы темнеет силуэт дракона. Дыхание замирает, хтоник неуверенно шагает ближе, хотя разглядеть узор не составляет никакого труда. Пальцы подрагивают. Вильям говорит быстро, будто извиняясь. Хель знает, за что: за невозможность обойтись собственными усилиями. За то, что нужно просить о помощи.
- Красиво, - выдыхает Хель. Это глупо, не к месту, понимает он сразу же, но ладонь скользит по обнаженной коже, по чуть светящейся серой чешуе дракона. Ненастоящего. Живого. Хтоник думает: хранила ли его кожа подобный след? Тогда, в другой жизни? В этой отголоском былых узоров стали изменчивые чернила на коже. В чужом узоре — сила могучего зверя, в его собственных — лишь тьма ночных кошмаров. Дракон движется под рукой, тянется за звездой, которую не может поймать…
- Он похож на тебя, - тихо шепчет Хель и тогда же понимает: он не сможет причинить боль. Даже краткую. Не этому человеку. Взгляд скользит по силуэту сверкающего создания. Похожего на Вильяма — такого же… шального. Неугомонного. Неукротимого. Ненавидящего границы. Какую звезду не можешь догнать ты?
Обнаженные пальцы саднит от этого прикосновения — ласкового, нежнее всех предыдущих. И Хель вдруг вспоминает… есть и другие варианты. Пальцы скользят по выступающим лопаткам, по обманчивой хрупкости чужих позвонков... хтоник последней глупостью склоняется ближе и оставляет поцелуй меж лопаток на обнаженной коже. Признание обретает форму в его голове, но Хель знает: если сказать, будет еще больнее.
- Это не обязательно.
Он отстраняется с решимостью хищника, боясь передумать. Он никогда не делал того, что собирается, но оно того стоит. Он уверен. Падает на колени, поднимает чужую рубашку и дрожащей рукой протягивает Вильяму. Тому не придется страдать — только не если у Хеля есть выбор. А выбор есть.
Узор рун на подаренной безделушке — магическая вязь.
Пламя, отбрасывающее тени на стены, - сила разрушительной стихии.
Смятая рубашка Вильяма с кромкой сорванных пуговиц — материя, послушная чужой воле.
И дракон на чужой спине.
Как сложились детали истории незначительной безделушки, так складывается сейчас картина нужного плетения магической вязи в разуме хтоника. Он пытается вспомнить, сколько сил может истратить за раз — но сбивается в своих подсчетах. Может быть, ему не хватит сил даже на это. Но какая разница? Он чувствует: сейчас действительно может принести пользу. Но сначала…
- Я не знаю, как надолго этого хватит, - выдыхает Хель, - хватай клетку — и обратно. Не останавливайся. Не оглядывайся на меня. Если я упаду — не возвращайся. Понятно?
Вильям может слышать: голос хтоника не дрожит, решимость делает его почти властным, не терпящим возражений. Хель сам принимает решение и не дает усомниться в сделанном выборе ни себе, ни напарнику.
Ответа он уже не слушает, магия закипает под кожей. То, что в исполнении Вильяма кажется искусством, самого Хеля оборачивает чудовищем: чернила срываются с рук, будто выступившая в ране кровь, заполняет горечью рот. Хель выдыхает и сосредотачивается: черный узор на камне не похож на руну, скорее на рисунок. Ломаные линии ложатся поверх друг друга. Хтоник чувствует, как чернила льются из глаз — слезами, которых он никогда не позволял себе. Узор на камне становится объемнее…
Хель помнит: нежность чужих рук на излете ключиц, острую боль, впивающуюся в шею. Помнит, как тело жаждало избежать боли. Сердце встретило ее с радостью. Сердце сбивается с ритма, замирает.
Чернила текут с рук хтоника, в воздухе переливаясь цветом, меняя плотность, сплетая воедино материю и стихию. Сил не хватает всего каплю — получившееся эфемерное создание выглядит не так, как представлял Хель. Он поднимает голову и с удивлением встречает существо, похожее на то, что, он знает, сидит в клетке его ребер. Он желал создать дракона, похожего на чью-то живую душу, а создал чудовище, подвластное воле хозяина так, как его подобие под сердцем никогда не сможет.
Хель чувствует, как кровь во рту смешивается со сгустившимися чернилами. Существо — кость и хрупкая плоть, перекатывающаяся энергия пламени под маской животного черепа. Ты красивый, думает Хель целый долгий миг. Не верит, что способен на подобное. Даже на подобное. Целую крохотную мучительную вечность он любит свое создание — а затем усилием воли отпускает цепи, и существо срывается с места, кидается в гущу воспевающих славу своему богу культистов.
- Беги! - шепчет Хель и снова клонится к земле. Следующая руна ложится проще, не требует стольких сил… но кровь наполняет рот. Хель понимает: он слишком близок к грани. Малейшего усилия хватит, чтобы сорваться вниз. По коже под слоем стекающих чернил бегут свежие изломы трещин. Предательская усталость.
Магия вливается в землю через начертанный символ, и Хель чувствует: работает. Земля содрогается, каменная твердь над головой и под ногами воет, готовая обрушиться… трещина ползет от пальцев, прижатых к каменному полу — в сторону скопления культистов. Ломкая, опасная. Дрожь камня вокруг усиливается. Хель чувствует: почти, почти грань. У него темнеет в глазах, все тело напряжено, трудно удержаться в реальности.

С грохотом обрушивающейся породы трещина ложится посреди заполненного зала, пересекает залитый кровью алтарь — и разрушает на своем пути все, до чего может добраться. Мир вокруг содрогается, Хель чувствует жар вулкана, трещина разрастается проломом. Хтоник тихо стонет и замирает: больно. Дрожь под ногами мешает подняться.
Он прислушивается… и не может ничего различить. Гул крови в ушах мешает. Хтоник на ощупь находит рукоять трости и приподнимается. Ноги предательски подкашиваются. Трещит камень горы вокруг. «Ты, что, взорвал вулкан?» - вопит подсознание почему-то голосом Корвуса. Хель тихо обреченно смеется. Грань.
Он знает: еще одно усилие — и ему конец. Может, не телу, но человеку внутри него. Силы закончатся, и он рассыпется прахом. Может, оставив после себя монстра, заслуживающего того, чтобы стать добычей охотников.
- Вилл, - зовет Хель. В глазах темно, все чувства подводят. На коже уродливо застывают сгустившиеся чернила — поверх изломов трещин. Хтоник чувствует неправильность лежащей в ладони трости — и находит собственную руку слишком бледной, с обострившимися сколами выступающих косточек. Грань, мысленно выдыхает он.
Как слепец, Хель валится к стене. Собственные руки кажутся неправильными с побледневшими, почти выгоревшими чернилами. Хель догадывается, что еще сделала с ним магия: плеснула седины в волосы, серость глаз смазала густой чернотой, оставив расплавленное серебро радужки. Чудовище.
Тварь под ребрами урчит довольно, камень вокруг ревет разбуженным великаном. Нужно бежать, но хтоник снова оглядывается, силясь разглядеть что-то за пеленой подступающего мрака. Надеется, что напарник успел. Не может удержаться, чтобы не позвать снова.
- Вильям?
Темно. И за ревом вулкана ничего не слышно. Хель не знает, что сталось с созданном им тварью. Но знает: пролом мог поглотить многое. И каждый, кто рухнул вниз — жизнь на его совести. Жизнь убийцы? Но разве сам он хоть чем-то лучше? Безумец. Глупец, эгоистично жаждущий не спасти невинное существо, а снова прильнуть к чужой руке.
Страшно. Прошедшие мгновения растягиваются для ростовщика на целую вечность. Время становится вязким, как покрывающие кожу чернила. Как сон, из которого вырываешься с утробным воем. Земная дрожь под ногами мешает стоять прямо, мешает ориентироваться в пространстве, обнаженная ладонь слепо шарит по камню стен, стирая пальцы в кровь. Кашель застревает в горле предвестником гибели.
Кубы: создание атакующего зверя из материи, стихии и магической вязи; пролом в земле протомагией и магической вязью.
Умения за последние 24 часа: использовано 11 из 12.
Отредактировано Хель (2022-07-18 09:59:32)

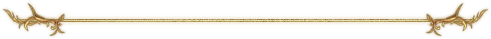
Чужие пальцы касаются кожи. Вильям закрывает глаза, вжимаясь лбом в каменную стену. Он знает: сейчас будет больно. Из его тела вырвут кусок, а после дракон, разозлённый пропажей, рассечёт спину и выскользнет наружу. Останутся две раны: там, где извлекли солнце, и там, откуда выпорхнул зверь. Два вспоротых кратера под лопатками у рёбер.
Тело готово к боли. Любого солдата учат её терпеть.
И Вильям замирает, закрывая глаза.
— Давай, — приказывает он Хелю, чтобы тот не медлил. — Не оттягивай удовольствие.
Удаётся скрыть дрогнувший голос за тоном твёрдости.
Любой знает: ожидание боли хуже, чем сама боль. Пальцы ростовщика ведут вдоль позвоночника с чувственностью, с любовью, ладонь кажется такой же температуры, что и собственное тело. Ни тепло, ни холодно — просто приятно. Эта нежность неуместна, она почти сочувствие палача перед казнью. Спина покрывается гусиной кожей, предвестником боли и индикатором страха. Эта ласка раздражает и щекочет нервы, возводя тревожность в абсолют. Вильям считает это пыткой: утешать перед тем, как причинить кому-то муку — это ли не издевательство?
Пытку меньше всего ожидаешь от тех рук, что касаются сейчас: память ещё отчётливо помнит болезненность выдернутой из рукопожатия ладони, так нехарактерно изменившую свою привычку. Совесть колет под ребро.
Короткая усмешка над самим собой расчерчивает губы.
Расплата. Слово, горькое на вкус, но благородное. Сильное — становится легче перетерпеть почти любую пытку, которую над тобой совершают. Откликнуться на неё, прося новой ласки, дать яду просочится под кожу и ранить. Отпустить себя. Склоняя голову вперёд, выставив острые позвонки, свести лопатки. Пусть чужая рука предвестником боли касается костных выступов. Пусть! Вильям уверяет себя, что боли не боится.
— Он похож на тебя, — тихо замечает Хель, разглядывая дракона на спине.
Кожа ещё чувствует прикосновение чужих пальцев. Вильям не может сдержать усмешки. Оборачивается через плечо и жмурит глаза в улыбке:
— Такой же зубастый?
Ему не нужен ответ Хеля, ведь он знает: оба думают об одном и том же. Чужие пальцы касаются лопаток, ведут через позвонки к шее. Вильяму почти получается забыть о том, что скоро будет больно. Почти: тело ещё выдаёт болезненное напряжение от предстоящей боли — тонусом каменных мышц.
Но боли не наступает.
Спина чувствует короткий поцелуй меж лопаток, едва заметно вздрагивает от неожиданности. Поцелуй звучит как точка. После него ничего нет.
— Это не обязательно, — шелестит голосом Хель, но Вильям теряется, не зная, о чём он говорит.
Хочется задержать мгновение, смаковать ощущение сухих губ на коже вдоль позвоночника. Вильям перечёркивает эту мысль как недостаточную. Не задержать — повторить. В случайном жесте читается такая любовь, что можно посчитать её откровением, признанием, вырванным без слов. Вильям счастливо улыбается в стену, смотря в себя. Никто ранее не проявлял такой инициативы. Забавно, что такой невинно-ласковый жест может ранить сильнее, чем пережитая постель.
Никогда ранее не приходилось испытывать нечто подобного. Вильям вспоминает ощущение падения над пропастью. И понимает: сейчас было так же.
— Дурак, — с нежностью усмехаются губы, обнажая ряд острых зубов.
До боли обидно оказаться здесь и сейчас с чувствами, совершенно неуместными ситуации.
До ломоты в теле Вильям обязан думать о другом. За пределами лестницы уже совершено одно ритуальное жертвоприношение — до нового осталось немного. Глухой стук о пол заставляет обернуться, принять из чужих рук рубашку с сорванными пуговицами. Отрешённое лицо Хеля кажется чужим, нереальным. Возвращает в реальность.
Вильям хочет спросить, но вопрос тает в воздухе.
Застревает в горле.
— Что с тобой?..
Губы произносят так, словно забывают, как звучат слова. В полумраке пещер важна лишь дрожащая рука, протягивающая ткань костюма. Хель на Вильяма не смотрит. Он отверг его предложение так, как Вильям отверг его предсмертную волю. Выбора не остаётся. У Вильяма он один: только подчинится.
И когда магия преображает полукровку в чудовище, остаётся лишь отшагнуть назад. Чернила на лице Хеля выглядят чужими, нереальными. Разум истерично сплетает воедино человека, преданного идеям миролюбия, и мага, создающего монстра. Вильям задерживается, чтобы наблюдать со стороны. Сплетённое из теней чудовище выглядит злом из сказок, срывается по приказу хозяина — и Вильям срывается вместе с ним.
Времени нет.
Сущность собирает в себе темноту подобно скользящим из воздуха нитям, мчится к капищу, увлекаемая злой волей. Кровавые песнопения смолкают спустя мгновение. Вильям видит издалека десятки багровых лиц, возносящих ладони к небу, что оборачиваются в тревоге, прерванные гулом. Тьма покрывает воздух. Спустя мгновение земля трещит под ногами.
Вильям пошатывается, удерживая баланс. Трещина, раскалывающая пещеру пополам, проходит рядом с его ногою, тянется дальше, увлекая в себя людей, ломая жертвенник с мёртвым телом на части. С купола пещеры срываются сталактиты и хоронят под собой приносящих молитвы сектантов. Они раздавлены: единым куполом магии, вгрызающимся в их жилы монстром, камнями, упавшими с небес.
Остаются лишь три жреца: отдельно от остальных, что замерли в верном метре от гибели. Вильям выхватывает клетку, оставленную без защиты, почти у них под носом. Животное, помесь кошки и дракона, тревожно выпускает когти, содрогаясь в тряске.
— Вилл! — доносится до ушей. — Вильям! — и ноги ускоряют бег.
Заслонённая стенкой лестница кажется спасением от всех бед. Вильям врывается в неё с истерикой опаздывающего спринтера и падает на землю, едва ли не выплёвывая легкие кашлем. Он поднимает голову — и не узнаёт.
Поднимает голову и видит то, что видеть не должен.
— Ты, — доносится до Хеля голос, но эти слова не звучат как ласка. — Ты…хтоническое чудовище?
Вильям не верит своим глазам: стёртый рисунок чернил, пепел бесцветных волос и ещё более заострённые черты лица у того, кто и раньше походил на птицу. Он знает, кто это. Внешность хтоника невозможно перепутать ни с чьей другой.
— Хель? — он словно пытается позвать того, кто был минутами ранее на месте чудовища.
Но Вильям знает без ответа: чудовище родное. Колебания тянут время. Рука тянется к пистолету, предупреждая возможную опасность. В стену ударяет такой сноп энергии, что отбрасывает Вильяма к другой стороне коридора, а Хеля нещадно сваливает на пол. Оставленные в жертвенном зале маги ещё пытаются убить непрощенных гостей. Вильям видит их лица в коридоре за секунду до того, как проход заваливает камнями.
Временное ощущение безопасности. Нужно уходить.
— Вставай. Подъём! — Вильям небрежно тянет ослабленное тело на себя.
Му-шу в клетке отчаянно бьётся, тяжесть напарника под второй рукой кажется невесомой. Вильяму чудится, что он преодолевает обратную дорогу за час. Хотя проходит едва ли больше пяти минут. Глаза узнают место большой соляной пещеры: с неё всё начиналось. Вильям поднимает глаза к небу и понимает, что пропал.
Кусок облаков зияет от него на расстоянии птичьего полёта в небольшом круге открытого прохода. Вильям призывает пространственную магию — она открывает синим порталом там, наверху. Из горла доносится разочарованный стон: на это место от лишнего присутствия облачена защита, создать портал ближе не получается. Только лезть на стену.
— Хель, слышишь меня, Хель? — Вильям начинает резко бить по щекам того, кого минуту назад испугался. — Нам нужны твои верёвки. Твои! Посмотри: я создал портал в Тульпу. В твою лавку. Всё кончено! У нас получилось.
Вильям трясёт за плечи. Пытается достучаться:
— Последнее усилие — и всё. Мы дома. Пожалуйста, приди в себя. 
Это не беда, что там не ждут меня,
Что не сохранил с тобой себя.
Что я так уйду и, может, не пойму,
Что в мечте остался как в плену.

— Ты…хтоническое чудовище?
Хель замирает. Глаза находят напарника, впиваются в лицо, ищут взгляд… и Хель чувствует: больно. Больнее, чем любой удар, чем зубы, вгрызающиеся в шею. Больнее, чем знать: тот, кто тебе дорог, хочет убить. Чудовище. Тварь в подреберье рычит довольно, чувствуя сладость возмездия.
Хтоник знает, что видит напарник: уродливо измененной тело, в котором заострилась каждая косточка. Шипы позвоночника под потрепанной кожей плаща. Белая кожа, лишенная привычного узора чернил, изрезанная только сетью трещин. Выбеленные волосы. И глаза, в которых от человеческого не осталось ничего.
Хель пытается улыбнуться, но в глазах напротив видит только ужас. Он знает: заслуженно. Память участливо подбрасывает видение: перекошенное от ужаса лицо подростка, увидевшего монстра. Ржавый ножик в дрожащей руке, укол под ребро… и кровь, заливающая руки. Убийца. Чудовище. Он убил снова — не зная, скольких, но чувствуя, что за такое не расплатиться даже собственной вечностью. Боль кажется заслуженной расплатой.
Новая судорога сотрясает землю, что-то шарахает совсем рядом, и хтоник теряет с таким трудом обретенное равновесие. Разжавшаяся ладонь слепо шарит вокруг, ища знакомую сталь трости. Находит — и прижимает к груди не как оружие, а словно защиту. Страх выламывает ребра. Хтоник кашляет, опираясь на руки. Подбородок окрашивается вязкостью крови и чернил. Это уже не имеет значения.
- Вставай. Пойдем!
Руки тянут за собой, заставляют подняться. Хель не понимает: зачем? Какой в этом смысл. Ноги едва держат, перед глазами все плывет, мир вокруг содрогается снова и снова, как тело ростовщика, пожираемое приступом слабости. Погони нет. Он убийца. Чудовище. Сил хватает только держаться, нещадно опираясь на подставленное плечо. Кашель мешает дышать - как и шнурок амулета, удавкой обнимающий шею.
Краткий миг отдыха — когда они возвращаются в самое начало. Взгляд находит контур спасительного обрыва — слишком высоко. Смех застревает, мешаясь с кашлем. Хель прикрывает глаза и сам не понимает, что заваливается в сторону. Руки обнаруживают шероховатый камень стен, боль заставляет тихо шипеть сквозь зубы.
Тот, кто боится, трясет хтоника за плечи, бьет по щекам — как неразумного ребенка в истерике. Нужны веревки. Он слышит, но разум с трудом держится в изможденном теле. Выпусти, рвется тварь под ребрами. Отпусти, хватит сопротивляться. Собственная сила оборачивается вспять, не находя признания у владельца. Хель впивается взглядом в глаза напарника. Все еще завораживающие — всегда завораживающие.
- Последнее усилие — и все. Мы дома. Пожалуйста, приди в себя.
В клетке бьется, дрожит поместь кошки с драконом — совсем кроха. Единственная невинная душа. Хель хрипло смеется, чувствуя, как губы заливает кровь, почти черная. Мы дома. Разум цепляется за так опрометчиво сложенные слова, как будто в них есть смысл. Они и по отдельности едва имеют значение, вместе же — стираются вовсе.
Он знает: грань совсем близко. Боль может стать еще страшнее. Но разве он может отказать этому человеку? Магия вспыхивает под руками — в последний раз за этот мучительно долгий день. До спасительной кромки выхода над головой протягивается не веревка, а полноценная лестница. Прутья из толстого металла выдержат любой вес. Но Хель знает: сам он не поднимется.
Ослабевшее тело валится к земле, пальцы последним отчаянным жестом тянутся к человеку напротив — уродливые деформированные фаланги, оканчивающиеся слишком острыми когтями. Ладонь повисает в воздухе и падает обратно. Не хочется пугать. Хель пытается улыбнуться и давится кашлем. Последнее усилие стоило ему всего.
- Я не пойду, - выдыхает он.
Больно. Страх выламывает ребра когтистой лапой запертого чудовища. Может, оно спасет, если выпустить. Но спасаться не хочется: Хель готов к тому, чем все кончится. А последних поцелуев было так много, что можно пожертвовать еще одним.
- Ты предупреждал, - шепчет хтоник. Взгляд не отрывается от бледного перепачканного пылью лица напарника. От омутов глаз. Лишь дай мне посмотреть в последний раз…
- Где пистолет? - голос дрожит, как и пальцы. Хель запоздало понимает: он так не хочет. Глупая эгоистичная мысль. И рука с тростью взлетает вверх, протягивая оружие человеку напротив. Хель знает: убить хтоника трудно. Но он не собирается мешать. Не собирается искать спасения. Он знает, что до последнего будет сдерживать сущность чудовища. Этого должно хватить…
- Пожалуйста, - голос снова сбивается. Боль затуманивает сознание, мешает рассмотреть черты напарника. Палача. Освободителя. Хель чувствует: он сделал все, что должен был. Его роль в истории сыграна, он получил даже больше, чем мог рассчитывать. Память мечется перепуганной птицей, смешивает все…
- Вильям, пожалуйста, - повторяет тот, кто меньше всего похож на ростовщика из Тульпы, - я… не смогу сам.
Признание срывается сокровенной тайной, как украденный поцелуй. В нем больше ужаса, чем в судорогах, ломающих кости. Больше любви, чем в плетении обнаженных тел. Хель улыбается кривой уродливой улыбкой, в глазах стынет серебро. Он знает: плоть уже кажется рыхлой, сухой, тонкой, как слой пепла на обожженном бетоне.
Хель мечтает, чтобы Вильям влез в его голову, чтобы сам нашел то, что хтоник не может облечь в слова. Я хотел поцеловать тебя в первую же ночь. В первый вечер. Когда ты читал стихи. Я должен был сказать что-то, должен был… Хель не понимает, что каждую из своих мыслей бросает в человека напротив подобием ножа. Измученный разум способен на то, что обычно едва подвластно. Все, что не могут произнести залитые черным губы, исторгает сознание.
Мне так больно. Вильям. Пожалуйста.
Я должен был сказать что-то. Когда ты читал стихи. Но не мог. Я только думал о том, что никогда не смогу убить тебя. Не смогу защититься. Не смогу увидеть твою смерть. Я думал о том, как сильно мне хочется подойти ближе. Как сильно хочется касаться тебя… так, как ты касался черепа в моей лавке. Я никогда не видел ничего прекраснее. Ты само воплощение жизни и красоты.
Я — просто чудовище.
Тварь в подреберье с болью жмется к прутьям клетки, тянется туда, откуда, чувствует, тянется собрат. Больно расставаться, страшно умирать.
Хтоник едва может удержать трость в пальцах.
- Возьми.
Помнишь, как ты ворвался на следующий день? В очках, словно в броне. Жестокий, как палач инквизиции. Ты спросил, зачем я прикоснулся к тебе. Я и сам не мог понять: это было больно. Всегда было больно… но я хотел. Хотел поцеловать тебя. Всю ту проклятую ночь, весь день. И я готов был расплатиться за это желание чем угодно.
Я готов расплатиться.
- Пожалуйста.
Он знает: времени нет, но глупое желание сильнее рассудка. Жажда умереть от этой руки. Жажда умереть, смотря в глаза. Не умереть — умирать. Хель за свою жизнь наслушался сказок, он знает: чудовище всегда умирает в конце. Для таких, как он, не существует хорошего финала. Он урвал себе наслаждения больше, чем заслуживал, и жажда прикоснуться вновь к чужому теплу заставляет вжиматься в стену. Хтоник знает, кого видит человек напротив — монстра. Уставшего. Мечтающего, чтобы боль прекратилась.
Он знает, кого видит сам.
Моя смерть.
Моя жизнь.
Моя любовь.
Мысль замирает на губах вздохом. Когтистая лапа, даже не ладонь, отчаянно, обреченно тянется к Блаузу. Так хочется коснуться, но острота когтей не позволит — их хватит оставить шрам глубже, чем сможет любое лезвие. И сердце бьется все быстрее, будто мечущийся в капкане загнанный хищник. Так же слепо шарили пальцы по сколам холодных костей, как сейчас - беспомощно дрожат в воздухе.
Он не может попросить о поцелуе. О последней ласке желанных рук. Не может. И так больно, но может быть еще хуже. Хель сопротивляется подбирающемуся беспамятству, чувствует, каким слабым стало тело. Сила монстра — лишь на поверхности. Но пробить сердце будет достаточно просто. Трость, повинуясь последней воле хозяина, заостряется клинком.
- Вильям.
Кубик на материализующую магию - хорошо.
Использовано 12 умений из 12.
Отредактировано Хель (2022-07-19 16:57:39)


Вильям помнит, что нужно делать.
Ладонь настойчиво прислоняется к пистолету. Не выхватывает, но касается кобуры так, будто это невидимая сопернику защита. Этот жест аккуратен, почти не виден стороннему глазу. Касание выглядит как почти случайное, но пары секунд будет достаточно для того, чтобы нацелиться во врага резко выхваченной рукой. Будто это поможет, если что-то пойдёт не так: здесь, в пещерах, под пиками сталактитов. Где всё может сорваться в любой момент.
Поступает Вильям всегда быстрее, чем многие думают. Принимает решения молниеносно, действует без промедления. И делает всё правильно: он приводит их к первой пещере, создаёт портал телепорта и даже находит верный выход из положения, используя умения, которых нет у него самого.
Вильям может себя похвалить: он умница.
Но вновь его планы рушатся как карточный домик. Волей того, чьего мнения, на самом деле, никто не спрашивал.
— Что ты такое говоришь? — в сводах пещеры голос Вильяма кажется нехарактерно громким и высоким.
Он замирает под каплями стекающей из стен воды. Вильям едва сдерживает раздражение, разглядывая тварь с расстояния. В ней видны некогда знакомые черты, но сознание упорно не хочет их принимать, потому что знает: бывает другая воля. Вильям ставит клетку с животным на землю, скрещивает руки на груди — и в позе скользит не замкнутость, а скорее враждебность. Он изучает тело хтоника с расстояния, приближается медленно, будто ожидая в любой момент нападения.
Чужие глаза смотрят на него новыми вселенными. Вильяма едва заметно подёргивает, руки вновь леденеют, хотя жара в воздухе способна расплавить воздух. Эти глаза чужие, непохожие на два привычных серых омута — в них ничего от нужного человека. Лицо узнаваемо, но обезображено. Сетью мелких трещин, выступающими из жил костьми, бледностью чернил, которые выцвели. Заострёнными чертами, которые напоминают скелет, обтянутый кожей. А внутри — сущность жестокой пустоты — это читается так ясно, что даже не хочется проверять.
Вильям приближается достаточно, чтобы заглянуть в лицо. Он видит: чудовище ослаблено. Рука с когтями замирает в воздухе и падает подобно кукле, отрезанной от кукловода. Перекошенный рот пытается улыбнуться, но давится кашлем. Отвратительное зрелище. Не знай он эту сущность чуть лучше, чем остальных, пристрелил бы на месте.
Как делал это ранее.
— Просишь смерти? — в голосе нет даже отголосков жалости.
Вильям наклоняется к уху некогда знакомого человека и шепчет:
— Ты лжец.
Слова звучат как укоризна. Как обвинение. Вильям и сам чувствует себя обманутым. Чужая тайна выбивает опору под ногами, холодит жилы: эта тайна омерзительна, неприятна. Как признание в собственном безумии, недееспособности и заразе. Вильям не может смотреть на хтоников спокойно, просто не способен их любить, отрицая сущность ксенофильной связи.
Любая тварь может выйти из-под контроля. Разум упорно твердит не верить даже срокам давности чужого слияния. Аннигилятор навсегда оставляет в человеке след, а после становится неясно: где стирается граница одного и начинается другого. Вильям приподнимает пальцами подбородок неизвестного существа, его губы касаются чужих ушей:
— Передай это тому, кого ты сейчас поработил. Чудовище.
Пальцы берут благородно предложенную трость и используют её как опору. Вильям готов нанести удар, но сначала ему нужно проверить.
Что хранит странное существо в своей голове?
«Я хотел поцеловать тебя в первую же ночь. В первый вечер. Когда ты читал стихи. Я должен был сказать что-то, должен был…»
Слова режут так, как кинжалы не умеют. Глаза расширяются в немом ужасе. У Вильяма скручивает в груди: он смотрит в чужое, растерявшее границы привычного лицо, и ему кажется: он ошибся. Лицо Вильяма вытягивается: в нём — отражение боли, нанесённой глубоко в сердце чужими словами. Вильям бы хотел вернуть сказанные колкие фразы, но увы: вернуть их не получится.
Он ошибся. Он горько об этом сожалеет.
С лица сходит маска опасности, стирается, как грим с лица античного актёра: улыбка тает смазанным резким движением. Вильям смотрит в чужие глаза и не верит. Слушает — и не может понять.
«Мне так больно. Вильям. Пожалуйста. Я должен был сказать что-то. Когда ты читал стихи. Но не мог. Я только думал о том, что никогда не смогу убить тебя. Не смогу защититься. Не смогу увидеть твою смерть. Я думал о том, как сильно мне хочется подойти ближе. Как сильно хочется касаться тебя… так, как ты касался черепа в моей лавке. Я никогда не видел ничего прекраснее. Ты само воплощение жизни и красоты.
Я — просто чудовище».
Глаза наполняются влагой. Слишком мало для слёз, слишком много — чтобы силуэт человека напротив оставался чётким и не размывался. Вильям чувствует укол совести: он слишком больно врезается в сущность, он царапает его насквозь. Пальцы тянутся к лесенке следов на левом предплечьи.
Вильям уже сейчас знает: будет ещё один.
— Прости, — он рвёт канал ментальной связи, зная: это уже слишком.
Проникнуть в чужие мысли впервые становится настолько мучительно-больно, что от этой откровенности хочется спрятаться. Невыносимо. Неправильно. Существо напротив по-прежнему просит смерти, вновь тянет к Вильяму ослабленную уродскую руку. Но теперь Вильям может её перехватить: переплестись пальцами между длинных рыхлых фаланг, попытаться сомкнуть ладонь. Как прежде: тёплую. Для Хеля-хтоника рука Вильяма кажется подобием детской. Монструозная кисть пересекает границы собственного запястья.
Вильям обречённо улыбается:
— Признаюсь, брюнеткой ты мне нравился больше.
Укол юмора ничтожен. Вильям не знает сам: кому из них двоих эта невинная шутка нужна больше. Он отворачивается от Хеля, вновь перехватывает оставленную клетку вместе с тростью и тянется к монстру за объятием. Перехватывает под грудь, вытягивая с положения сидя на ноги.
— Не поднимешься сам — я тебя потащу.
Вильям не ждёт помощи, не ждёт ответа. Тело Хеля кажется ему слабее, чем обычно, но разум твердит, что это чувство может быть обманчиво. Тяжело пересекать стремянку с двумя грузами наперевес. Но Вильям ни на секунду не жалеет о принятом решении.
В лавке Тульпы похожая темнота, укутанная полумраком. Вильям не выходит — выпадает из портала на пол, роняя клетку с му-шу на пол, и сам падает на Хеля. Прохлада помещения обжигает лёгкие. Кожа, кажется, плавится от царящей в Кроксе жары и впервые находит утешение в покое приятного тенька. Невозможно удержаться от кашля.
Вильям поднимает глаза: солнце Архей встаёт за горизонтом. Наступил рассвет: они оба живы.
— Корвус, чудесная птица, — ласково щебечет Вильям, находя взглядом знакомое гнездовье. Он падает на грудь Хеля и устало закрывает глаза, вжимаясь носом в излёт острых ключиц. — Я вернул твоего друга. Мы смогли.
Напрасны мольбы и бесплодны молитвы:
Здесь время гуляет по лезвию бритвы -
И все мы гуляем по лезвию бритвы.
По лезвию бритвы.

Чудовище.
Хранимая столь бережно тайна бьется, словно чашка, оброненная дрогнувшей рукой. Предательство на вкус как горечь чернил, что стекают по подбородку. Тварь в подреберье мстительно вскидывается, наслаждаясь мукой хозяина: почувствуй себя ослабшим животных у чужих ног. Бессильным, скованным. Обреченным.
Хель не думал, что может быть еще больнее. Страшнее. Но человек напротив смотрит так, что ясно — не узнает. Знать не хочет. И глаза жжет от подступающей влаги, хотя хтоник не может плакать. Он в этом уверен. Он понимает. Он знает, что видит Вильям — он сам столько раз торопился отвернуться от зеркала. Шею сдавливает удавкой снятого с покойника амулета — снятого так давно, чтобы помнить. Чтобы не превращаться в монстра. Но Хелю хочется улыбнуться. Предательская больная мысль: оно того стоило. Разменял своей жизнью чужую.
Самую важную.
Вильям перехватывает трость, готовясь нанести удар. Тренированное тело убийцы, безупречность выверенных движений. Искренность мешается с хорошо играемой ролью. Улыбка кажется оскалом победителя. Хтоник узнает этот взгляд — это наслаждение победой. Истинное предвкушение чужой гибели. Эта страшная радость вонзается прямо под ребра — будто намечая цель для взметнувшегося клинка.
Чужие глаза, смотрящие с такой ненавистью, - худший прощальный подарок, но Хель не может отказаться и от него. Он замирает, готовясь к удару, даже не чувствуя, как менталист проникает в мысли.
- Пожалуйста, - повторяет тот, кто был прежде ростовщиком. Боль замирает в невыдохе, пальцы дрожат. Хочется потянуться — но нельзя. Тот, кто держал в объятиях, сейчас смотрит с отвращением. Хель знает, почему. Он знает, насколько уродлив. Собственное тело подводит.
Он ждет удара. Готовится к нему, но мысли выдают. Каждую боль, каждое воспоминание. Хотел бы молчать, но не может. Больно так, что не шевельнуться. Каждое из сказанных слов вонзилось не в кожу — глубже. Лжец. Чудовище. Самый необходимый, самый желанный омут глаз полон невыносимой ярости. Ненависти. Боли. Хочется закрыть глаза.
Но клинок в чужих руках замирает, не достигнув цели. И человек напротив… вздрагивает. Хель видит, как ненависть смывается из темных глаз, вытесненная виной. И сожалением. Менталист, вспоминает Хель. И жалеет о том, что на памяти нет щитов — он не хочет, чтобы Вильяму было больно. Но во взгляде напротив плещется отчаяние переносимой пытки, отражением той, что мучает хтоника. Улыбка превращается в гримасу.
- Прости, - выдыхает Вильям. С сожалением всех сказанных прежде слов. С ужасом большим, чем плескался во взгляде.
Хель выдыхает, ладонь тянется к человеку напротив, пробитая дрожью, как пулей. Хтоник вспоминает, что прикасаться нельзя, но Блауз сам берет его руку, переплетает пальцы. И в грудине становится так больно, что кажется: клинок все же коснулся сердца. Насквозь. Хель задыхается и невольно клонится к чужому плечу.
- Вильям.
Так произносят не имена, а заклинания. Голос дрожит, во рту горчит от крови и пепла. Ослабевшее тело стремится прижаться к желанному теплу, забыть о собственном уродстве. Не получается: ладонь Блауза меньше деформированных пальцев хтоника. Когти опасливо ложатся поверх чужого запястья — боясь оставить случайный след. Хель закрывает глаза и на долгое мучительное мгновение прячет лицо в изгибе чужого плеча. Смерть ласково касается пальцев. Дыханием задевает волосы. Знает, что касаться нельзя, чтобы не напугать, но… каждому свой грех.
- Признаюсь, брюнеткой ты мне нравился больше.
Смеяться больно, но удержаться не получается: хтоник давится кашлем, пачкает чужую рубашку, и без того немало пострадавшую, кровью и пеплом. Предательская мысль как лезвие кинжала — может, так и выглядит посмертие. Может, лезвие нашло сердце, и это видение — последний подарок измученному сознанию. Так и не произнесенное признание впитывается теплом дыхания в синяки на чужой коже.
- Я не могу, - повторяет Хель. Его сил хватает только на то, чтобы удерживаться в сознании. Он знает, что не сможет не то что идти, даже подняться. Не важно, как бы сильно ему ни хотелось. Ему думается: не заслужил. Ни этой внезапной ласки, ни милосердия.
Тварь в подреберье воет, захваченная ужасом продолжающегося заточения. Кровью окрашенные лапы баюкают чужое сердце, словно святыню. Собственное бьется так, словно сделано из стекла, и каждый новый удар может оказаться последним. Горячий воздух царапает горло при новом вдохе.
- Не поднимешься сам — я тебя потащу, - обещает Блауз.
Тот, кто должен был стать палачом, удерживает в вынужденном объятии, перехватывает под плечи, вынуждая подняться. Происходящее смазывается, как сон, настигший под утро: хтоник чувствует чужое тело близко к своему, обманчиво хрупкому. Даже в ипостаси чудовища Хель лишь пародия на хищника — ломкий силуэт, колкость выпирающих костей. Но Вильям прижимает к себе так, словно это уже не имеет значения.
Хель чувствует: человеку все еще страшно. Хтонику страшно тоже. И больно так, что не выдохнуть. Человек тянет к лестнице, поддерживает — упрямства и сил ему хватит свернуть любые горы. Вместо гор только несчастные ступеньки: неравная битва.
Краткий миг падения в пустоте — и магия выбрасывает в родной уют лавки. Хель задыхается, падая на спину, на обманчиво хрупкие шипы позвоночника. Никакого изящества, боль заставляет шипеть сквозь зубы. Недолго. Вильям падает следом, слышится стук ударившейся клетки о дощатый пол. Хель замирает, боясь двинуться.
Над головой раскачивается ловец снов. Синяя вспышка маячит на самому краю поля зрения. Хель тихо и обреченно смеется. Радость и боль мешаются в этом смехе, уродливая рука ложится поверх чужих лопаток, придерживая, не давая скатиться на пол. Неудобно. Но какая разница?
- Вы, что, рехнулись?! - слышится знакомый голос, исполненный раздражения и скрытого довольства. Птица слетает ниже — к прилавку, почти над головой у Хеля. Замирает, разглядывая лицо хозяина. Такая редкая тишина замирает на кончике приоткрывшегося клюва. Но длится недолго — Корвус не изменяет своим привычкам.
- Больно? - участливо спрашивает пернатый, склонив голову, протягивая слова с удовольствием садиста, - а я тебе что говорил? Падать нужно на задницу. Даже если у тебя от нее одно название.
- Корвус, чудесная птица. Я вернул твоего друга.
Хель чувствует чужое дыхание над сетью трещин, разрезавших ключицы. Чувствует, как человек клонится ближе, не пытаясь бежать. Может быть, не боится… но рисковать слишком страшно, хтоник помнит: этот человек всегда готов к нападению. И ростовщик не хочет ни пугать, ни удерживать. Деформированная ладонь лишь слабо гладит меж лопаток, придерживая.
Мы смогли, выдыхает Вильям.
- Что вы смогли? - бодро подхватывает Корвус, - чуть не убиться?!… Мать моя богиня весны, Хель, вот это тебя перекосило! А с шеей-то что?! Какая зубастая тентакля на тебя напала?! Ты… смеешься?!
Смех хрипит в горле, мешаясь с кашлем. Усталость наваливается неподъемным грузом. Слышится недовольный рокот, писк, скрежет — спасенный зверь скребется в клетке. Похожее чудище, но побольше, покорно затихает под ребрами: морда собрата скалится из-за решетки. Лапы легко находят чужое тепло. Спокойствие похоже на сон о мирной смерти.
- Не уходи, - просит хтоник. Тихо-тихо, так чтобы услышал лишь Вильям. Надорванный голос почти не подводит. Боль ничего не может против мирного желания держать нужного человека в своих объятиях. Хель вплетается взглядом в покачивающийся амулет под потолком — яркость лент алеет в лучах рассветного солнца, пробивающегося сквозь мутные стекла окон.
Когтистые лапы не ранят, баюкая человека так, как чудовище ласкает подаренное сердце. Хель клонит голову набок и прижимается губами к чужой макушке. Почти невесомо. Монстр не смеет просить о поцелуе. И монстр слишком устал.
- Хель, только не отрубайся! - вскидывается Корвус. Хтоник замечает синь крыльев прямо у лица, алый росчерк ленты под потолком… и проваливается.

- Сдурели совсем?! - птичья туша ударяется о плечи чужака, выбрасывая из осторожных объятий. Птица слетает ниже, впивается взглядом в лицо Блауза. - Некромент меня подними, по каким катакомбам вы лазили?! Что ты с ним сделал? Что, я тебя спрашиваю! Ему же нельзя волноваться! Вот так покорежило, это ж... опять зеркала прятать, опять... Нужно поднять! Немедленно!
Крыло ударяет по чужому плечу, Корвус мечется от прилавка к полкам, мельтеша всполохом перьев. Потом сходу опускается к клетке, клонит любопытную голову.
- А это что такое? У-ти, какая коше… Мать моя Харибда, вы что сюда притащили?! Оно дышит огнем?! Оно же спалит нам всю лавку! Ты! Ты! - клюв бьет по прутьям клетушки, - без паники! Дядюшка Корвус со всем разберется! Понятно?! Не паниковать, чувырла!
Птица снова возвращается к Вильяму, пикирует сверху, обрушиваясь всей тяжестью на прилавок, впивается внимательным взглядом в лицо незнакомца. Все равно незнакомца — мидии давно съедены, лучший друг в отключке. Беспокойство с каждым взмахом крыльев становится все более очевидным - как и желание отыскать виноватого.
- Рассказывай, - шипит птица, хотя кажется, что клюв не приспособлен к подобным звукам. Но в голосе угроза слышится большая, чем мог бы представлять хтоник, даже если бы постарался. - Ты мне все расскажешь, - цедит Корвус, а потом встряхивается, будто вспоминая о более важном. Действительно вспоминая.
- Ох, утро. К нам сейчас люди придут, а здесь бардак! Ты, живо подъем, живо-живо, давай! И Хеля моего поднимай! Я сам это чудо не дотащу, хоть и костлявый, а весит как… Поднимай! И по лестнице. И клетку забери! Секретность, говорил он, никакой лишней информации! Сейчас наш молочник придет, дверь откроет — и плакала ваша секретность. Дожили! Снова со всем разбираться мне! Вот уж свалилась пакость на мою безвинную голову… кстати, вкуснющие были мидии! Высший сорт! А теперь подъем, живо!





Вильям смеётся.
Выхватывает каждую реплику исполинской птицы как шум смешной телепередачи и не может ей не улыбаться. Кожу саднит меж лопаток: касания длинных когтей через ткань похожи на ласку щекоткой, к тёплой рыхлой ладони хочется подставить спину ближе. Эта щекотка приятная, она не та, что причиняет мучение. Тело просит не прерывать удовольствия: ровно до того момента, пока чужая ослабленная ладонь не падает на пол. И Вильям чувствует почти разочарование.
Он поднимается, опираясь руками о поверхность дощатого пола. Тело пошатывает от усталости, от перегрузки, оно расслабляется, когда опасность миновала. У любой энергии есть свой откат. Тело позволяет себе слабость вместо привычной силы: тогда, когда всё закончено, можно вспомнить, что ты просто человек. Живой. Плоть и кровь. Вильям почти не смотрит на Корвуса: скорее в себя, глаза вонзаются в линии трещин на паркете, находя в них отдых для уставшего взгляда. Разум настойчиво теряет самообладание вместе со своим собратом. Эхо мыслей дарит успокоение: приключение закончено. Пещера позади. Можно выдохнуть.
— Нас покусали, — резюмирует Вильям Корвусу, поднимая лицо.
Веки слипаются в сонной неге. Нижняя губа по-прежнему разбита, щеку украшает ссадина чужих зубов. За воротом рубашки алеет небольшой круглый след подле ключиц — почти незаметный, если не приглядываться. Вильям любовно трёт шею ладонью, взгляд теплеет от свежего воспоминания: искусанные губы напротив, взгляд серых глаз из-под полуприкрытых век, стон, несдержанно рвущийся из груди через поцелуй. Вильям выдаёт счастье взглядом: слишком велика усталость прятать его за масками.
— Не буду говорить, что случилось, — улыбается он Корвусу. — Ты всё равно не поверишь.
Пальцы тянутся отворить клетку с запертым существом. Зверь с белой шерстью бесстрашно выпрыгивает наружу и оглядывает помещение любопытным детским взглядом. Сбивает хвостом стоящую на тумбе лампу. Большие голубые глаза находят силуэт Корвуса. Му-шу достигает цели одним большим прыжком на прилавок. Несоразмерно толстая лапа цепляет крыло когтями. Узник небольшой клетки тянется к игре и знакомству. Пока не видит миску с сухим кормом и не переключает внимание на неё.
Это совсем некрасиво и неэлегантно. Вильям смеётся над проявляемой жадностью: му-шу вгрызается в миску зубами, корм летит во все стороны, миска с водой оказывается опустошена за считанные секунды. Сытое довольное животное выбирает место для сна: большое воронье гнездо походит как нельзя лучше. Длинный хвост с кисточкой на конце свисает с насеста безвольным шнурком.
— Цисса совсем безобидна, — с лаской обращается Вильям, нежно улыбаясь Корвусу. — Иногда извергает огонь, но у всех свои недостатки.
Ладони тянутся поднять безвольное тело хтоника на руки. Голова с платиной жёстких волос откидывается назад: сверху вниз тело Хеля кажется ещё более мёртвым, чем обычно. Пальцы, стараясь убедиться в обратном, щупают пульс на сонной артерии. Сердце бьётся. Пульс слабый и ненаполненный, медленный. В теле хтоника жизни действительно осталось мало.
— Ты молодец, — слабо улыбается ему Вильям, хотя знает, что Хель его не услышит.
Грудь ещё царапает желание отвернуться: тело чудовища кажется ему опасным и иноземным. Чужим. Бомбой замедленного действия, к которой не хочется прикасаться: может рвануть в любой момент, вцепиться зубами в поверхность руки и вырвать мясо с костями. Сейчас инопланетянин обманчиво слаб и безмятежен. Вильям признаёт себе: ему страшно. Он не привык бояться опасности — привык сразу её устранять. Отголосок прошлого удерживает его на грани разумного.
Хотя Вильям до последнего сомневается: есть ли разумность в каждом его поступке?
Он спотыкается на лестнице, едва не уронив тело Хеля за порог. Маленькая комната спальни с небольшим окном кажется Вильяму кельей монаха. Руки мягко кладут тело хтоника на поверхность кровати, отворачивают его к стене и накрывают одеялом. Собственная усталость накрывает почти так же — с головой. Вильям не помнит, как доходит до похожей комнаты-близнеца. Как стягивает грязную одежду, ворошит пыльные волосы. Едва голова касается подушки — сознание выключается с силой пинка по голове.
Вильям просыпается позже. Спустя два часа. Мягкие лапы наступают на поверхность одеяла, длинные уши прижимаются к голове крадущегося существа. Животное бодает его лоб: нос с двумя широкими ноздрями холодный, как у ящерицы.
— Цисса, — Вильям счастливо улыбается и сгребает животное к себе в объятия.
Цисса жмётся к чужой шее мордой, сворачивает хвост кольцом под тяжёлой рукой человека. Вместо урчания — механический стук заведённого мотора. Рокотание машины из груди, смазанное утробным тоном. Вильям слышит в своей голове то, что не смог облачить в слово его собеседник. Му-шу не способно к речи как таковой: оно общается ментально.
— Я тоже тебя люблю, — шепчет ласковый голос, и ладонь касается пушистого лба и длинных ушей с кисточками. — Спи.
Впервые за долгое время присутствие кого-то рядом дарит Вильяму непомерное чувство спокойствия. Он засыпает ненадолго, но просыпается совершенно отдохнувшим. Архей уже почти встаёт над горизонтом. Солнце щекочет кожу лучами через прорези занавесок. Вильям одевается, спускается вниз. Хочет коснуться маховых перьев крыльев у птицы на насесте, но вовремя отдёргивает руку. Ладонь в красной перчатке замирает на длинной сухой ветке.
— Просыпайся, — ласково щебечет он Корвусу, крутя мобильный телефон в руке. — Я заказал тебе кальмаров. Скоро привезут.
Пальцы сгребают перочинный нож на углу прилавка рядом конвертами писем, находят полюбившийся взгляду череп. Вильям плюхается на софу, которую когда-то занимала Сзарин: у книжных полок и древних фолиантов. На долгие полчаса он увлечён настолько, что его невозможно оторвать даже взрывом динамита. Вести лезвием по кости достаточно сложно, оно затупляется, но руки умудряются за полчаса соорудить подобие римской тройки. Вильям знает, почему именно эта цифра: три дня. Три дня их приключения, три дня их жизни, которые запомнятся на целую вечность.
Цифра, вырезанная на затылке, выглядит бледнее остальных. Её приходится покрыть антикварным лаком, чтобы бледные чернила вязи не растворились в воздухе, как с глаз ментального мага. В итоге Вильям доволен своим творением: бледные чернила чуть ниже выйной линии зияют свежим отпечатком. Он уверен: стоит его адресату коснуться черепа, собственные воспоминания прошибут током. Вильям оставит этот череп в лавке. И Хель увидит это приключение другими глазами. Глазами того, кто были неподвластен анализу раньше. Хель узнает: скуку прогулки в одиночестве, заливающий солнцем серпантин дороги, падение в ручей и даже две чашки. Две чашки в серой комнате, которые достали для завтрака и позабыли, что собеседника в этой комнате не хватает. Соседа, демонстрирующего средний палец из окна напротив. Перчатку, любовно украденную от посторонних глаз и спрятанную под красной тканью.
Вильям смеётся вместе с Корвусом с утра. Му-шу находит покой на тёплых острых коленках, сворачивается клубком, не давая подняться.
— Хель что, это читает? — Вильям смеётся беременной чайкой, запрокинув голову, и долго пытается объяснить Корвусу, что же такое «естество леди Джоанны».
Его лицо краснеет от смеха. Но улыбка стирается с губ, когда уши слышат источник постороннего шума. Кто-то спускается со второго этажа по лестнице, без привычной опоры трости, которая позабыта на первом этаже. Вильям даже не оборачивается, чтобы посмотреть. Он знает, кто пришёл. И прячет взгляд в шерсти белого существа на коленях.
— Доброе утро. Солнце уже встало, а мы оба живы. Выходит, я такой обманщик.
Дороги сплелись
В тугой клубок влюбленных змей,
И от дыхания вулканов в туманах немеет крыло...

Каждый, кто хоть раз бывал в приключении, знает: домой вернется совсем не тот, кто уходил. Любая дорога хранит следы прошедших по ней ног. И на тех, кто по ней прошел, тоже оставляет следы — свежий залом морщинки в уголке губ, полустертый шрам на поджившей коже. Память — порой добрая, порой печальная, но всегда неизменно меняющая своего владельца.
Хель смотрит в зеркало, изрезанное сетью старых трещин, и улыбается. Его разбудил не кошмар, заставляющий подскочить с воем от боли под ребрами, а перезвон голосов с первого этажа. И из ломких осколков зеркала смотрит взгляд внутреннего зверя — спокойный, почти счастливый. Демон доволен, все они пережили ночь. Новый день касается обожженной кожи с нежностью пухового одеяла.
Сон смазал изломы трещин, вернул переменчивый рисунок чернил — второй кожей, защитным слоем. Хель сдерживает мучительное желание рвануть вниз, спуститься в лавку, убедиться, что голоса — не обман измученного сознания. Но он терпит. Смывает усталость и вулканную пыль под душем — сперва слишком холодным, затем неприятно обжигающим. Никогда не получается настроить температуру воды правильно. Чудовище под ребрами мирно спит, сытое и довольное. У каждого свое счастье.
Хель не надевает плащ, забывает высушить волосы. Ноги подкашиваются на скрипучей лестнице — хтоник уверен, неровность походки заранее предупреждает о появлении. Но сам он оказывается не готов к тому, что увидит: залитую светом лавку, блики, разбегающиеся по стенам и корешкам многочисленных книг. Тихий звон колокольчиков под потолком, шелест лент, перестук косточек, вплетенных в ловцы снов.
И веселость, звучащая в голосах — лучший на свете подарок. Хель замирает, останавливаясь на пороге, оглядывая помещение, и взгляд выхватывает каждую болезненно прекрасную деталь. Счастливого Корвуса, совсем неэлегантно поедающего кальмаров. Диковинное создание с белой шерсткой, свернувшееся на чужих коленях…
Хелю кажется: это сон. Первый за всю его жизнь счастливый сон. Прекрасный. Он представлял нечто подобное, касаясь кожи Вильяма в темноте. Вглядываясь в омуты завораживающих глаз. Желал увидеть напарника среди уюта и света лавки редкостей, среди безделушек и бесценных артефактов. Такого — спокойного, мирного. Без масок и брони. Сердце сбивается с ритма, губы растягиваются в улыбке. Блаженной. Счастливой — такой, что способна даже самое негармоничное лицо сделать красивым.
Ладонь находит опору стены, взгляд мечется по помещению, выхватывая островки пыли, залегшие на полках. Дыхание сбивается, Хель боится ответного взгляда: отдых вернул его чертам узнаваемость. Он снова человек. С влажными после душа волосами, торчащими во все стороны. С подрагивающей слабостью рук, лишенных трости. Сил все еще так мало, что каждый шаг дается с трудом — но какая разница? Плащ остался забыт в спальне, шнуровка жилета распущена — пальцам не хватило ловкости.
- Доброе утро. Солнце уже встало, а мы оба живы. Выходит, я такой обманщик.
Хель смеется. Он знает, что смех может звучать неприятно, но удержаться не получается — и смеется с легкостью впервые отбросившего тяжелый груз с плеч существа. С беззаботной радостью и блаженством. То чувство, что царапает клетку ребер, кажется ему похожим на счастье. И даже монстр за грудиной не рычит, а почти мурлычет. Радостью делает его милосердным к хозяину.
- Ты остался, - выдыхает Хель. И прикусывает язык. Хочется сказать так много, но он не знает, с чего начать. Тепло чужого голоса действует лучше целебных зелий: затягиваются раны. Не исчезают бесследно, но покрывают уставшее сердце сетью белесых шрамов. Таких же, как на чужом запястье. Память — совсем как в линиях, вырезанных на черепе.
- Наконец-то проснулся! - вскидывается Корвус, неэлегантно трясет крыльями, - я уж думал, что все, придется гроб заказывать. Ты хоть знаешь, как дорого нынче обходятся похороны?! А как тяжело содержать лавку, пока ее хозяин шляется не понятно где?!
Хель улыбается: Вильям занял софу под книжными полками, и кажется, будто так и должно быть. Будто так было всегда. Блауз выглядит в этой лавке так гармонично, что три дня знакомства кажутся целой вечностью.
- Решил переманить моего друга? - с оттенком веселья замечает Хель, ступая к прилавку. Пальцы перехватывают развороченный контейнер, лишенный содержимого — из клюва Корвуса свисает щупальце поедаемого кальмара. Птица щурится с вызовом. Тянется коснуться головой протянутой ладонью. Мимолетное прикосновение, выражающее радость встречи.
- Я и тебя переманиваю, - усмехается любимый голос.
- А я теперь знаю, что такое «естество», - хитро заявляет Корвус, проглатывая угощение, а затем клонит голову на бок, протягивает с удовольствием садиста, - рассказать?
Хель проходит мимо прилавка, мимо полок, занятых всякой всячиной — яркие всполохи амулетов, золото украшений и статуэток, шелест потревоженных чужим присутствием пергаментов. Хтоник садится на софу рядом с тем, кто должен был стать палачом. Рука тянется к существу на чужих коленях — и замирает. Хель боится потревожить. Боится напугать. Обоих.
Он еще помнит ужас в чужих глазах. Ненависть. Помнит мстительную радость, когда клинок тянулся к сердцу… этого не изгнать из памяти, но хтонику думается, что такова превратность жизни. Прекрасного в его памяти куда больше: нежность в омутах чужих глаз, тепло прижимающегося ближе тела. Взгляд выхватывает яркость помятой книжной обложки на ближайшей тумбе…
- Он, что, и тебе это читал? - возмущается хтоник, тянется за книжкой. Обложка — типичная для любовных романов, изображающая два слившихся в объятиях тела. Женская головка на мужском плече. Хель чувствует, как начинают гореть щеки. - Корвус, я же…
- Он сам захотел! И вообще, какая разница, что и кому я читаю?! Судя по вам двоим, вас изнасиловал огромный кальмар. Ну и шея у тебя, Хель, просто ужас какой-то! Да и лица не лучше. Какие же вы, люди, хрупкие, просто позорище! Ты поосторожнее с этой… я так и не понял, что такое. Кошка такая чудная! Давай такую же заведем, Хель? Мне нравится! Она смешная! И сухой корм жрет. О! Хочешь калмарчика? Я тебе оставлю! Здесь еще целый контейнер! Ты представляешь? Еда! Хель, у нас в лавке еда! И я еще помню, что мне должны ужин. Полноценный ужин в ресторане! Я не забуду, даже не думайте. И где деньги? Где моя часть гонорара?! Даже не думай меня обмануть, прохвост!
- Это девочка? - пальцы все же тянутся к белой шерсти. Касаются невесомо. Ладонь хтоника слегка дрожит. Никаких браслетов, нет привычной перчатки.
- Это кошка! Ты, что, не слушал?! Мушка, прелесть такая, я не могу. Хотя она мне все гнездо помяла. И книги твои расцарапала. Но какая милая! Давай ее оставим! И этого тоже оставим, он мне нравится. Он меня кормит!
Хель снова смеется. Голова невольно клонится ближе к чужому плечу. Хтоник не уверен, насколько это уместно. Он не знает, что может понять Корвус по жестам друга, лишенным привычной сдержанности. Когда ладонь после недолгого колебания касается чужих пальцев, в установившейся тишине можно услышать, как шелестят ловцы снов под потолком. Птица замолкает, и Хель понимает, почему: чувствует тяжесть взгляда на своей руке. Прикосновение обжигает приятным теплом. Почти не больно.
Хтоник замечает череп, подаренный Вильяму — совсем рядом, но поставленный так, что не остается сомнений: вещь остается в лавке. Свежая руна украшает поверхность выбеленной кости. Послание, гадает Хель? Видение?
- Я тут вспомнил! - грохочет Корвус и срывается с прилавка, - что у меня там дела! В холодильнике! Ты же собирался его чинить? Пойду вытащу мышей, приберусь, что ли. Мушка, хочешь со мной?
Всполох насыщенной синевы касается потолка, выуживает что-то из свитого гнездовья — и с шорохом крыльев исчезает за лестницей. Хель провожает товарища взглядом, чувствуя: придется объясниться. Но потом. Сейчас он может только тихо вздохнуть и уже не таясь привалиться головой к чужому плечу. Диковинная смесь дракона и кошки уносится по лестнице вслед за новым другом.
- Не ожидал от Корвуса такой тактичности, - шепчет ростовщик. Мысли текут свободно, дыхание замирает в изгибе шеи. - Значит, книжки читали? Что я еще пропустил?
Чувствует, что говорит ерунду, но страшно замолчать. Он знает: Вильям не любит тишины. Он сам отвык от нее. Хочется слышать только нужный, вспарывающий до самых костей голос человека, чьи пальцы накрываешь ладонью. Страшно: вдруг человек отодвинется. Хель торопится отвлечь Вильяма глупой болтовней, потерять поцелуй на чужой коже. Незаметный. Ласковый.
Тяжесть пережитой опасности срывается мурашками вдоль позвоночника. Хель закрывает глаза и позволяет себе насладиться чужим теплом. Обжигающим, болезненным. Сотни невысказанных вопросов оседают на коже чужим дыханием. Кажется невозможным, что этот человек здесь, что оба они живы. Что в последний момент удар клинка сменился объятием.
- Оставайся, - тихо предлагает Хель. Никогда никого не просил об этом. Даже Корвус обошелся без приглашения, но этого человека хочется видеть в своей лавке. Не дивной редкостью, но близким, родным. Разум мечется перепуганной птахой. Пальцы скользят по чужой руке, находя обнаженную кожу между кромкой алой ткани и рукавом.
- Не бойся меня, - просит Хель. Выдыхает почти беззвучно. Глупо. Почти умоляет. Влага, капающая с волос, впитывается в ткань на чужом плече. Хтоник боится, что эта просьба все испортит, что Вильям рассмеется, оттолкнет. Ладонь взлетает к лицу напарника, касается щеки, будто показывая: нет больше ни когтей, ни костяных шипов. Человеческие пальцы, дрожащие от волнения. От усталости.
Тот, из чьих рук принял бы даже смерть, так близко, что дыхание перехватывает. И оказывается, что близость гибели не обязательна, чтобы ценить жизнь. Пальцы ласкают нежность бледных щек, невесомо касаются контура губ. Пятнышка родинки — такого заманчивого, что так и хочется прижаться не только ладонью, но и губами. Хель прячет смущение за ресницами. Еще один поцелуй оставляет на шее Вильяма — близ ссадин и синяков.
Хтоник молится, чтобы человек рядом не отстранился, чтобы чудовище не напугало его так, как пугает своего хозяина. Пальцы ласкают чужое лицо. Хель ведет губами по чужой шее, целует кромку скул. Оставайся, - эхом отдается в каждом касании губ. Хель не знает, как можно оторваться от этого человека. Мое, - шепчет тварь из подреберья и покорно тычется мордой в ладонь хозяина. Не отталкивай. Пусть человек останется. Вместе со своим собственным монстром.
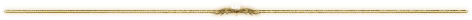
Вильям молчит. Прячет неуверенность за ресницами, пальцы замирают на обложке книги. Откладывают её в сторону: с изображением двух слившихся в объятии тел, словно в этом есть что-то сокровенное. Смысл так и не впечатывается: мысли витают в голове стаями каркающих ворон, темнеют мушками вместо век. Глаза желают понимать текст, но разум не может сосредоточиться.
Мысли где-то.
Мысли с кем-то.
Являются задумчивостью в лице, искажают узор привычной маски шута. Хель садится рядом, и спинка софы приятно скрипит под тяжестью второго тела. Кожа с волос капает на мрачное дерево пола. Вильям ждёт, пересаживается в сторону, чтобы обоим хватало места. Не произносит ни звука. Отдаёт инициативу тому, кому, кажется, она нужнее.
Им нужно поговорить. Приключение закончено, дело за малым: получить свою награду. Проститься. Но сам Вильям не начинает: молчит, дружелюбно улыбается, будто желает доброго утра. Диковинное животное с колен спрыгивает за новым другом.
— Оставайся, — тихо предлагает Хель, опуская взгляд. Даже не здоровается. — Не бойся меня.
Вильям поворачивает голову набок, будто он не расслышал. Будто не понял смысла сказанных фраз. Правая бровь вздёргивается вверх лишь на мгновение застревающего во взгляде вопроса. В реальности слова впечатываются под кожу даже больнее, чем нужно. Сердце сжимается в груди: Вильям находится в этом доме всего второй раз в жизни, а человека рядом знает три дня. И ловит себя на мысли, что хочет остаться. Плечо становится мокрой от влаги с волос. Шею обжигает горячность поцелуя. Влажного — от душевых капель, стекающих за воротник. Жаркого: от близости чужого тела, столь желанного, как главная награда гонки.
— Зачем? — Вильям спрашивает, абсолютно точно зная, куда он собирается вывернуть разговор.
Воздух в лавке становится проводником рождающейся тишины. Снаружи доносятся лишь мерные скрипы отворяемого холодильника, хороши мягкой поступи большой птицы. Вильяму тишина не давит на разум, он умеет ждать тогда, когда ждать нужно. Глаза человека рядом устремляются в пол: Вильям следит за каждым его движением. Боится что-то упустить.
— Я хочу, чтобы ты остался, — выдыхает Хель.
Хочется стиснуть зубы от обиды. От раздражения. Сокровенные слова — но всё не то. Витают где-то рядом, но не попадают цель. Рядом, но не те. Признание, но не такое. Становится почти горько: снова ощущение, сходное с тем, что из твоего рукопожатия стремятся выдернуть руку.
Словно нарочно от тебя пытаются что-то скрыть. Осознание горчит неясностью на языке. Хочется ударить человека рядом ментальной магией, выуживая нужное насильно. Только это будет не то: и оба об этом знают.
— Я не знаю, что говорят в таких случаях, — поспешно добавляет ростовщик. — Я никогда никого не просил об этом. Мне никто не был нужен…раньше.
И вновь мимо. Вильям опускает голову в пол, наблюдая за силуэтами двух теней на паркете: на плече одной покоится голова вторая. Руки чувствуют прикосновение чужой ладони к запястью. Приятно, ласково. Сокровенно — не так, как в бульварном романе, пропитанном сладострастием до основания. Касание даже в зачатке лишено доли пошлости и дурноты. Ладонь Вильяма расслаблено отгибается назад: проникай пальцами под перчатки, если хочешь. Продолжай.
Для одного из собеседников ласка никогда не будет синонимом боли. Тело Вильяма всегда к ней стремится. Как к источнику удовольствия, как к источнику информации. «Особенного», потому что и человек рядом с ним особенный.
Желание вытянуть нужные слова становится жаждой охоты, манией воспалённого сознания. Вильям скатывается по софе вниз, опирается руками о чужие острые колени. Ставит на них подбородок, заглядывая в глаза как голодная собака.
— Тебе со мной интересно?
Ребячество во плоти. Вильям знает: он умеет вытягивать признания, умеет играть на чувствах, включать обаяние по щелчку пальцев. Можно задать простой вопрос, чтобы получить развёрнутый ответ. Пальцы ласково перехватывают тяжесть чужой ладони, проникают фалангами меж фаланг. Слова Хеля несутся с упорностью бронепоезда:
— Я хочу, чтобы ты остался не для того, чтобы ты меня развлекал. Я…— Хель на секунду запинается, — ты меня завораживаешь, Вильям.
Невозможно не улыбнуться.
Невозможно не захотеть не завыть от разочарования.
«Демиург с тобой», — думает Вильям, оставшись голодной собакой без любимой кости. Закрывает глаза на мгновение, устало. Он столько услышал, что уже не хочет ничего с этим делать. Понимает: бесполезно. Если человек не хочет говорить, он не скажет. Сколько его не подводи, сколько ни выпытывай.
Можно коснуться чьего-то тела, не коснувшись души. Это нормально. Вильям почти кожей чувствует ударивший в его спину бумеранг: он столько раз издевался над другими. Теперь Хель — издевается над ним.
Кто же из них палач, а кто — жертва?
— Иди ко мне.
Ладони Вильяма протягиваются к чужому лицу. Гладят вдоль шеи, ведут по плечам: с нежность мученика перед распятием. Дёргают на себя за локти: заставляя Хеля сползти с софы следом, сесть немногим ниже талии на другого. Вильям прислоняется макушкой к полу, разглядывая другого человека снизу вверх. Пальцы играются распутанными шнурками жилета:
— Я останусь. Но только на сегодня.
И бешеное чувство говорит, что от этого дня нужно взять всё, что только можно забрать. Вильям начинает с жилетки: стягивая её с чужих рук и отбрасывая в сторону прилавка. Хватает чужие влажные волосы на макушке и впечатывает чужое лицо в своё. Кусает нижнюю губу так, чтобы человек сверху почувствовал боль.
Не ту, что заставляет мучиться. А ту, что является предвестником страсти.
— Хочу кое-что тебе ещё прочитать, — шёпот срывается в самые губы, глаза находят другие в интимной близости от лица.
Пальцы вплетаются в чужие мокрые волосы: запрещают отстраниться, удерживают человека на себе. Вильям улыбается и шепчет с почти надрывом:
— Меня застрелили в сердце.
Меня застрелили в сердце.
Меня застрелили в сердце.
Меня
Застрелили
В сердце.
И мне теперь не согреться,
На небе погасло солнце.
И каждая моя лопасть
Покрыта, как кожей, швами.
Меня застрелили в сердце,
И кровь до сих пор льется,
Собой наполняя пропасть,
Что ширится
Между нами.
Грата
Предательски сбивается голос. Вильям смеётся, будто сделал паузу нарочно. Тянется за лаской поцелуя, вцепляясь в губы с остервенелостью голодного хищника. Глаза смеются. Губы смеются тоже.
— Не знаю, когда мы встретимся опять. Найди продолжение.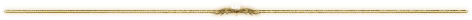
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-21 08:42:48)
Ты - боль, сладкое горе,
Ты - мой свет, ты - наважденье,
Ты - миг, горькая доля.

Радость медленно гаснет: Хель помнит, как может выглядеть Вильям, какой энергией полнится каждое движение, какая сила эмоций горит во взгляде. Сейчас же человек рядом кажется неуверенным, мгновение похоже на падающую на пол керамическую чашку — хрупкость звенящих осколков вонзается в кожу.
Хель понимает: он сказал не то. Меньше, чем требовалось. Испугался произнести то, что клеймом могло бы лечь на них обоих. То, что в мгновение перед смертью, плещется в каждой мысли, сейчас не срывается с губ. Ладонь нежно касается чужой кожи, умоляя: не мучай, не вырывай признания, к которому не готовы оба. Хель чувствует, как покалывает кончики пальцев от каждого касания к чужой коже — каждый раз это больно. Он не знает, как это можно объяснить. Ему жаль, что этого оказывается недостаточно.
Пальцы заползают под алую ткань перчаток — касаются с нежностью, но и с безумием пьяной жадности. Хель боится, что напугает. Хтоник знает, что бояться его — нормально. Целое страшное мгновение ему хочется рассказать обо всем, даже о той бездне, в которую погружают его приступы слабости. Хочется вцепиться в руку человека рядом, выплюнуть признание так, как сплевываешь наполнившую рот кровь. Хель тихо выдыхает и прикрывает глаза. Он устал. Бесконечной усталостью дрожит каждое касание его пальцев.
Когда ростовщик открывает глаза, Вильям встречает его взгляд — почти с озорством, с любопытством. С горящим в темных омутах желанием… забраться под кожу, в самое сердце, вырвать то, что так нужно… Чужая ладонь мягко вплетается в пальцы хтоника, вызывая дрожь, вызывая колкость мурашек вдоль позвоночника. Хель тихо выдыхает и… говорит то, чего не достаточно.
- Ты меня завораживаешь, Вильям.
Он видит по взгляду человека напротив: этого мало. Вильям закрывает глаза, губы дрожат в грустной улыбке. У Хеля что-то обрывается в грудной клетке — поезд здравого смысла сходит с рельс, сердце заходится отчаянно и нещадно.
- Иди ко мне.
- Я…
Хель задыхается, когда чужие руки касаются лица, ласкают вдоль шеи, забираются в жесткость влажных волос. Он может только с тихим вздохом щекой прижаться к заботливо подставленной ладони. Боль ожога цветет на коже — желанная и сладкая. Скажи хоть что-нибудь, - умоляет мысленно Хель - себя, но собственное тело подводит.
Вильям тянет за собой, к себе, вынуждая спуститься с софы, сесть на чужие бедра… с тихим болезненным стоном. Хтонику кажется, будто каждая кость в его теле сделана из стекла, каждое движение заставляет дрожать с опасностью вот-вот расколоться. Каждый жест чужих рук — словно острие ножа, ведущее вдоль ребер. Ужас, от которого перехватывает дыхание. Хель подставляется под каждую боль, позволяет стащить с себя жилет и покорно клонится ближе к чужому лицу, накрывает неоднократно разбитые губы.
Только на сегодня — слова впиваются остротой занозы под ноготь. Хелю мало одного дня, ему и вечности недостаточно. Он приникает ближе, подставляясь под каждое касание чужих пальцев. Предвкушение разлуки ужаснее подступающей смерти. Чужие пальцы вплетаются во влажные волосы, ощутимо тянут… хтоник тихо стонет, непроизвольно следуя за движением.
- Хочу кое-что тебе еще прочитать, - шепчет Вильям.
Хтонику кажется: он умирает. С каждым касанием чужой руки. С каждым словом, что вплетается в кожу, в самый узор изменчивых чернил. Сердце замирает, боль раскалывается под ребрами, будто сбитая дверь давно сколоченной клетки. Хель не мог даже представить, что чей-то голос может вспарывать плоть не хуже ножа. Много лучше — на тонкой кромке ржавого лезвия, что ранило когда-то давно, осталась лишь скромная полоса крови. Сейчас кажется, будто Хель сам — одна кровоточащая рана.
Прекрати, - хочется выдохнуть в смеющийся рот. Слишком больно. Почти так же больно, как недрожащее оружие в чужих пальцах. Хель знает: ему не забыть ничего, ни мгновения минувшего приключения. Ему кажется, за три дня он изменился сильнее, чем разрушившийся за целый века склеп. Время стачивает гранитные плиты — но голос Блауза вершит нечто подобное куда быстрее.
Ростовщик почти счастлив, когда чужой голос сбивается, когда звучит тихий смех. Его трясет, дрожь прокатывается вдоль позвоночника, вынуждая жаться ближе к чужому теплу. Пальцы ищут кромку пуговиц на рубашке. Дозволенный поцелуй — как прикосновение к лезвию кинжала.
Хель тянется еще ближе, срывает очертания пуговиц на плотно прижатом теле, распахивает рубашку — и руками касается бледной кожи. Пальцы скользят по излету ключиц, гладят шею… и губы срываются поцелуем по чужим щекам. Хочется что-то сказать, но Хель не может вспомнить, какого признания так жаждал Вильям. Измученный разум рождает другие строчки — услышанные где-то давно, подсмотренные, украденные в пыльной книге. Тоже признание.
- В своем несчастье одному я рад,
Что ты — мой грех и ты — мой вечный ад.
Хель помнит: нельзя срываться, этажом выше старый добрый друг мучает руганью холодильник. Дверь лавки осталась открытой — между случайным посетителем и с ума сходящим ростовщиком только хрупкая тень стеллажей. Но нет сил даже отстраниться всего на миг.
Смазанное касание губ вдоль чужой щеки, поцелуй на виске. Руки срываются по разгоряченной коже, вдоль ребер, по напряженному животу — ласкают у кромки брюк. Хелю хочется выдохнуть: не уходи. Пальцы тянутся освободить человека внизу от ремня брюк, сладко замирает сердце, вспоминая объятия пут на связанных руках. Мое, - шепчет Чудовище.
- Мое, - беззвучно, неслышимо срывается Хель во впадину меж ключиц. Влажный след тянется по обнаженной коже — вспарывая с неумолимостью лезвий. Губы ласкают каждый дюйм чужого тела, наслаждаются временно перехваченной властью. В ней нет ни капли мстительного упоения — лишь желание приносить удовольствие. Хель знает: Вильяму прикосновения не причиняют боли. Только ему самому — каждый поцелуй как ожог горячего чая. Каждая ласка пальцев вдоль подтянутого живота — словно порез бумагой.
Не знаю, когда мы встретимся опять.
Слова царапают, как колючая проволока: Хелю страшно. Обычно молчаливый, сейчас он оставляет глупые ласковые слова в каждом касании.
Моя смерть.
Прикус зубов у чужого горла — невесомый, не причиняющий боли. Касания языка вдоль ключиц, ласка поцелуев. Губы вспухли, вскрылись еще свежие ссадины. Чужие синяки — точно разводы акварели на бледной коже. Взгляд безошибочно находит каждый след, оставленный несколькими часами раньше. Мучительно больно любить того, кто тебя боится. Хель вспоминает неумолимость чужого взгляда, ярость в голосе, лишенном даже капли милосердия… стон, срывающийся с губ, становится болезненным. Хель вздрагивает, приникает губами к чужой коже над поясом брюк. Дрожь бежит по рукам, справляющимся с ширинкой.
Моя жизнь.
Мучителен каждый миг — Хель чувствует себя сумасшедшим. Пальцы с нежностью бегут по чужому телу — как могли бы ласкать драгоценнейший из старинных фолиантов. Губы вновь возвращаются к губам, приникают с жадностью грешника, с нежностью последнего желания. Хель срывается вздохом в контур ссадины на подбородке. Разум теряется, становясь просто словом, сердце шарахает навылет — простреленное стихами.
- Моя боль, - выдыхает Хель в поцелуй. Страшно до невыдоха. До мурашек вдоль позвоночника. Этот человек — худший яд на свете, и хтоник знает, что от отравления будет мучиться долгие годы. Он знает: кошмары станут терзать каждую ночь, срывая воем до хрипоты в подушку. Боль станет постоянным спутником.
Плевать, - отзывается тварь под ребрами, не скованная ничем, приникающая к собрату, чтобы вцепиться в подставленную плоть, чтобы собственный бок предложить под чужие зубы. Плевать, - соглашается Хель и целует снова.
У них осталось только сегодня.


Вильям знает: он будет жалеть.
Даже во время поцелуя не хочется закрывать глаза. Взгляд ищет в волосах Хеля: хоть какой-то намёк на платиновый блеск, в чертах лица — мертвенную заострённость трупа. Снизу вверх агрессивный узор чернил кажется наполнением жизни, признаком знакомой «человечности». Пальцы вплетаются в чужие ладони. Вильям чувствует: ладонь небольшая, почти такая же, как и его. Растягивает ткань красных перчаток, приникает ближе к телу. Чуть влажная от нервов, крепкая — не как у «мертвеца».
Вильям оголяет пальцы. Стаскивает перчатки с ладони вместе с предательски украденной вещью, делая вид, что она была на ладонях всегда: в игнорировании тайны есть своя уловка, как и в бесстыдном выражении глаз. Вильям бросает перчатки куда-то под прилавок: они летят смешно, поспешно, со скоростью броска бумаги в мусорное ведро. Чтобы ничего не отвлекало. Чтобы можно было вернуться обратно.
Вильям согревается о Хеля почти мгновенно: едва касаясь тонкой кожи на животе, после — заплетаясь в перевязь пальцев. Или это кажется: потому что жар в груди может не только греть других, но и согревать тебя самого.
Взгляд скользит по фигуре Хеля с любопытством. В каждом чужом жесте — неуверенность, неопытность, перемешанная с чувственностью. С жадностью, с горячностью, которая пленяет тем, что Вильям так страстно ищет в других.
Искренность.
Вильяму любопытно. Привстать, оперевшись на локти, дать расстегнуть рубашку. Пуговиц предательски много, можно наблюдать с удовольствием палача: как неловкие пальцы, шнурующие жилетку через раз, справляются с прорезями тканей. Как Хель взбудоражено сосредоточен: как внимательны его глаза, следующие дорожкой за пальцами сверху вниз. Как он почти тревожен, как пальцы едва заметно подрагивают. Как касаются кожи на груди почти неуловимо: случайные прикосновения не менее приятны, чем нарочные.
— Посмотри на меня.
Вильям хочет: поймать робкий взгляд из-под коротких ресниц, позвать, заставить оглянуться. Хель не может не посмотреть — Вильям знает. Он просит его так по-доброму, что не сдержать взгляд — чистый рефлекс. Рубашка свисает повержено на кромках локтей, чужие пальцы скользят нежной лаской по ключицам, до ярёмной впадины. Тянутся к шее. Вильям приподнимает под лаской подбородок, клонится в сторону: щекотно. Корпус тянется вперёд: к поцелую.
В это мгновение, кажется, они думают одинаково.
Прикосновение мажет сначала по коже щеки, затем застывает у самого лица. Вильям закрывает глаза, до его ушей доносится: тихая речь, словно шелест старинной книги. Хель шепчет ему прямо в губы, глаза восторженно встречаются с чужим взглядом.
— В своем несчастье одному я рад,
Что ты — мой грех и ты — мой вечный ад.
Вильям чувствует: его застрелили в сердце. Он не может сдержать восхищённый взгляд, не может не коснуться своей рукой пространства собственной спины. Вжаться, спросить:
— Откуда ты?..— и не закончить мысль. — Дракон на спине. Знаешь, как его зовут? Шекспир. Когда я был маленький, он был всего лишь ящерицей, гоняющейся за парашютом одуванчика. Библиотека сиротского дома была небольшая, и там я впервые взял маленький томик. И увидел: своё имя! Мне так показалось это забавно. Так значимо. У ящерицы…не было имени. Но тогда оно появилось. Этот сонет…я знаю наизусть. Хочешь?
Восторженная страстность, весёлость кокетства — в них ни грамма привычной фальши и игры. Вильям смотрит на Хеля с прежним восторгом, без страха: с искренностью в каждом жесте, с убийственной честностью во взгляде.
Чужие пальцы касаются низа живота у кромки брюк, чужие губы — рядом с пульсирующей артерией виска. Горячо, жарко. Почти как в Кроксе, хотя маленькая лавочка лишена жары до самого основания. Тут прохладно. Всем, кроме их двоих. Мгновение Вильям позволяет чужой воле взять над ним вверх, чтобы после объяснить: власть никогда Хелю не принадлежала. Это всего лишь иллюзия.
И Вильям вскидывается наверх, оседая. Толкая ростовщика назад, лбом упираясь в кончик длинного носа. Тело Хеля, худое, слабое, податливо склоняется назад под волей более сильного. Садится обратно на уровень чужих колен, и Вильям впечатывается пальцами в чужие голые рёбра.
— Мои глаза в тебя не влюблены, —
Они твои пороки видят ясно.
А сердце ни одной твоей вины
Не видит и с глазами не согласно.
Поцелуй смазанный, влажный: сначала языком до губ и до зубов. Чтобы пальцы дотянулись до молнии тёмных джинс, чтобы стянули их, ненадолго прислонив Хеля к поверхности прилавка. Вильям не любит медлить, когда владеть так хочется. Атрибуты одежды летят в сторону, к мусорному ведру. Хеля тянут к себе назад с жадностью желающего напиться. За плечи, за ноги — до чего удобнее будет достать.
— Я ненавижу хтоников, — шепчет Вильям. Кусает зубами мочку левого уха. — Ненавижу. Вы как проклятые ведьмы, как осквернённые могилы. Новообращенные, спустя три года, десять лет, с меткой, без — всё равно звери. Чужой разум в мёртвом теле. Недомертвецы.
Усилием ладони Хеля вжимают в поверхность деревянного пола. Хватают за волосы на затылке, заставляя прогнуться. И вот уже не Хель — им владеют преступной волей. Вильям клонится сверху. Чёрные тонкие волосы щекочут ростовщику подбородок.
— Ушей твоя не услаждает речь.
Твой голос, взор и рук твоих касанье,
Прельщая, не могли меня увлечь
На праздник слуха, зренья, осязанья.
Губы касаются чужой шеи. Ведут языком вдоль поверхности кадыка. Слух разрывает звон колокольчиков под потолком, крип двери: пришли посетители. Женщина средних лет с мужем под руку переступают порог лавки редкостей, стучит поверхность чужой трости. Гости находят взглядом лицо Хеля на полу и почти не верят своим глазам. В их лицах застывает стыд, ужас. Вильям настойчиво оборачивает лицо ростовщика к себе за подбородок. Шепчет в самые губы: «Смотри только на меня». Впивается жадностью поцелуя в рот. И гостям остаётся только уйти. Хлопнуть дверью, вновь потревожить колокольчики на нитках.
— И все же внешним чувствам не дано —
Ни всем пяти, ни каждому отдельно —
Уверить сердце бедное одно,
Что это рабство для него смертельно.
В словах в самых губы чувственности больше, чем в рваных движениях тел. Чем в царапающих чужую спину ладонях. Чем в противоестественном владении одного тела другим.
— В своем несчастье одному я рад,
Что ты - мой грех и ты - мой вечный ад.
Вильям закрывает глаза: стыдно. Почти обнажённо: не так, как обнажено тело, а как может быть обнажена душа. Волосы Хеля влажные от душа. Растрепавшиеся по полу. Серые глаза смотрят вверх под поволокой удовольствия.
— Я ненавижу хтоников, — постыдной тишиной звучит голос Вильяма в искусанные губы. — А в тебя влюбился.
Зловещая тишина как предвестник скорой разлуки. Так хочется ранить напоследок, быть раненым самому. Вильям открывает глаза, подаваясь вперёд. Прячет свой взгляд за прикосновением к чужому плечу. Ладонь закрывает рот Хелю как пленнику, которому приказывают молчать: сильно, настойчиво, впечатываясь в лицо совсем не ласковым жестом.
— Ничего не говори, — с мольбой просит Вильям. Слабо. Повержено. — Просто заткнись. 
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-26 12:06:31)
В сердце тает лед в ожиданье срока,
Но тебя зовет не моя дорога.
Что случилось вдруг? Я смеюсь и плачу,
Разомкнулся круг, все теперь иначе,
Но восток зовет, и скоро ты скажешь: "Прощай"...

Страшное понимание: придется отпустить. Хель закрывает глаза, прижимается ближе, игнорируя тягучую боль ожогов и напряжение уставших мышц. Обнимает, зарывается пальцами в чужие волосы. Ему кажется: он мертв. Так, как не смог бы убить ни один кинжал. Сердце оплетено лозами терновника. Скрипит выбитой дверцей пустая клетка под ребрами. Чудовище рычит, согласное вернуться — потом. Не сейчас.
Боль отступает, смывается подступившим удовольствием, и можно оставить поцелуй на чужом виске — губы прижимаются подобием дула пистолета. Поцелуй словно выстрел. Хель гладит человека в своих объятиях, не хочется отпускать. Ни на миг. Сердце каждым ударом шарахает будто навылет. Чужие слова впитались в каждую нить чернил на бледной коже.
Хтоник знает: страшно любить того, кто тебя ненавидит. Самую твою суть. Хель понимает — он тоже ненавидит монстра в себе. И отчаянно прижимается к чужому плечу. Не говорит признание, что горит под кожей, наполняет вены. Не может. Не хочет становиться для этого человека еще одной клеткой.
- Я не помню, кем был раньше, - тихо выдыхает Хель, и руки скользят по чужой обнаженной спине, ласкают узор татуировки на шее, гладят беспокойного дракона. Признание не то, что нужно, но хтоник не может сдержаться. - До... аннигилятора. Не знаю… первое мое воспоминание: это склеп, в котором я думал, что умру. Я помню лишь темноту и холод, помню, как впивались в ладонь осколки чужих косточек. Мне было страшно и больно. Каждый раз, когда… я снова оказываюсь там. Глупо бояться смерти, когда уже умирал, верно?
Хель выдыхает, смахивает с глаз непрошеную влагу. Уставшее тело благодарно принимает тяжесть чужого веса. Не хочется отпускать. Хтоника пугает собственное безразличие ко всему остальному: к жесткости деревянного пола под лопатками, к шорохам, доносящимся со второго этажа. Даже случайные посетители кажутся всего лишь отголоском сна. Хелю все равно — значение имеет только человек в его объятиях.
- У меня нет даже настоящего имени, - делится ростовщик. Отдает часть себя взамен на чужую откровенность, - я и сам себя боюсь. Ненавижу… наверное, так же, как ты. Еще сильнее? Одно дело — ненавидеть чудовище в других. Но когда оно смотрит из зеркала… Иногда я боюсь, что вовсе не являюсь человеком. Может, я и есть просто хтоническая тварь. Монстр, мнящий себя человеком... самому себе рассказанная ложь.
Ладонь на чужих лопатках вздрагивает, жмется теснее. Хель с тихим стоном прикрывает глаза. Кажется справедливым отдать свою тайну в обмен на чужую. Откровенность режет не хуже чужих признаний. Хочется сказать так много… сердце чувствует: следующий раз представится не скоро.
- Я убил тогда впервые. Мальчишку. Почти ребенка. Он испугался меня… я понимаю, почему. Мне его нож не причинил вреда. Мои когти… я помню кровь, заливающую руку. Помню ужас, раскалывающие грудную клетку, - пальцы тянутся к собственной шее, накрывают шнурок давным давно украденного амулета. - Я забрал это. Чтобы больше никогда… я лучше умру, чем снова превращусь в чудовище. Я хотел, чтобы ты убил меня.
Хелю кажется: он говорит не то. Портит момент. Когда объятия размыкаются, он чувствует себя одиноким. Впервые боль приходит не от чужой руки, а от ее отсутствия. Хтоник вплетается взглядом в чужое лицо, тянется погладить по щеке. Надеется, что его не оттолкнут. Пьяная ласка значит больше, чем царапающие спину руки. Чем рваные движения, выбивающие стоны из горла. Хочется касаться — гладить обнаженную кожу. Снова приникнуть поцелуем к излету ключиц. Хель думает: так будет выглядеть каждый его счастливый сон. Таким будет кошмар, выламывающий ребра.
- Ты не вернешься, - выдыхает Хель. Он чувствует. Во взгляде Вильяма неумолимость приближающегося тайфуна. Пальцы срываются вдоль чужих ребер, по напряженному животу. Хель обреченно улыбается.
Поднимается, тянется за новым поцелуем — невесомым, легким, почти болезненным. У них все еще есть этот день. Ожидание боли страшнее, чем сама боль. Не хочется отрываться от этого человека, даже зная — он причиняет боль. Впивается в сердце с безжалостностью дракона.
Люблю тебя, - беззвучно выдыхает Хель в чужие губы. Не вслух, чтобы не ранить. Достаточно боли, что уже сжимает тело. Тонкая трещина протягивается от уголка рта — предчувствием грядущего страдания. Ее легко не заметить. Она сотрется или углубится не раньше, чем самый нужный, самый желанный человек исчезнет.
У меня ничего нет, кроме этой боли. Ничего своего.
За шорохом одежды скрывается отчаяние предстоящей разлуки. Хель встряхивает головой, проводит пальцами по волосам, уже чувствует: прическа превращается в нелепое гнездо. Волосы пушатся, лишая хтоника привычного серьезного вида. Опухшие искусанные губы кривятся в обреченной улыбке. Хель ловит себя на грустной отчаянной мысли: лучше бы его все же убили. Лучше бы никогда не облекали чувство в слова. Лучше бы ему никогда не начинать свою жизнь в том давно временем стертым склепе.
- Ты голоден? - спрашивает ростовщик. Пальцы путаются в шнуровке жилета, никак не справляются с узлами. Хель вздыхает, чувствуя себя беспомощным глупцом. Руки дрожат. Хтоник проходит до входной двери, щелкает замком — стоило сделать это раньше, а теперь щеки трогает румянец, когда Хель вспоминает жадный взгляд темных глаз: смотри только на меня. Как будто он способен не смотреть на Вильяма хоть мгновение.
Лестница преодолевается почти без проблем — Хель спотыкается лишь однажды, неуклюже заваливается набок, задевая чужое плечо. Вздрагивает — боль не имеет ничего общего с расцветающим ожогом прикосновения. Уставшие требующие отдыха мышцы ноют.
Маленькая кухня на втором этаже — за поворотом лестницы. Еще со ступеней слышен грохот, а за порогом становится ясен источник: Корвус деловито освобождает холодильник от скудного набора хранящихся в нем пустых упаковок из-под яиц и… трупов мышей. Хель замирает на пороге, с недоумением оглядывая вереницу мышиных тушек. Ловит взгляд друга…
- Что?! Я тебе давно говорил: у нас в холодильнике мыши повесились! Ты думал, я так шучу?! И вообще… вы что там делали? - щурится птица, клонит голову набок, вглядывается с явно различимым ехидством.
- Полки прибивали, - отзывается с невозмутимостью Вильям, проходя в кухню, - они у вас на соплях держались. И детство вспоминали.
Хель давится воздухом, чувствует, как жар заливает лицо. Краснеет — снова, и от стыда никуда не деться. Маленькая кухонька — со старым проржавевшим холодильником, плохо работающей газовой плитой. С квадратным столиком, заваленным не посудой — снова книгами. На удивление гармонично смотрится Цисса, устроившаяся среди беспорядочно сваленного пергамента, с интересом рассматривающая все, что покидает внутренность холодильника. Подергивается длинный, кисточкой увенчанный, хвост.
Хель проходит к плите, пряча смущение, копается в подвесных ящиках — находит поваренную книгу. Потрепанный томик в коричневой обложке, по уголкам погрызенный мышами. В свете мутной лампы под потолком слова плывут перед глазами. Тяжело сосредоточиться, когда тело еще помнит тяжесть чужих движений.
- Смотри-ка, - с садизмом тянет Корвус, взлетев повыше, обращаясь к гостю, - неужто готовить решил? Что ты там выбрал? Блины? - птичий смех не отличается изяществом, птица грохочет, словно кашляющий дымом паровоз. Чуть не валится обратно на деревянные половицы.
Хель не оборачивается, старательно ополаскивая посуду под краном, потом снова шарится по ящикам и тумбам. В миску бьется несколько куриных яиц, засыпается пара ложек сахара… Молоко тоже находится на кухне — все под чарами консервации. Корвус не сдерживает довольного смеха.
- Видимо, удачно вы полки прибили, - замечает птица, - что кое-кого аж на готовку потянуло. Может, еще холодильник почините? Да у нас еще сантехника в ванной плохая - пошли бы, посмотрели... Эй, Хель… когда яйца бьют, предполагается, что скорлупа не попадает… а сейчас… ну вытащи! Вытащи скорлупку! Сам же подавишься, дурила!
Не сдержавшись, птица перелетает на тумбу, начинает активно советовать. В миску отправляются мука и молоко. Корвус кивает и недовольно хлопает по дрожащей ладони.
- Не так! Ну кто так перемешивает? Я тебе говорил, надо миксер купить! И микроволновку! Сколько можно…
Хель знает: он плох в том, что касается быта. Может, когда-то, будучи просто человеком, все было иначе. Но память о тех временах канула в лету, как и возможная ловкость рук. Плита отзывается на движение руки скрипом и скрежетом, Хель тревожно принюхивается, боясь, что потянет газом — но нет. На сковороду отправляется первая заготовка под блин… которая ожидаемо выходит комом.
Ругаясь, Хель одергивает руку от горячей сковороды, шкребет лопаткой, нелепо ругается, призывая демиургов. Потом оборачивается и, поймав взгляд Вильяма, заходится смехом. Он вдруг понимает, как нелепо выглядит — перепачканный в муке, с волосами, как пух одуванчика. Прижимая обожженные пальцы к губам. Он вдруг думает: ну и что, что у них всего день. Это тоже много! Это целая вечность!
Сквозь неплотные шторы проникает свет с улицы, скатерть на столе - нелепая, вся в крупных подсолнухах. Чтобы поесть за столом, нужно сперва сгрузить с него кипы бумаг и книг. Скрипучий стул протестует на каждое движение гостя.
- Хель! У тебя все горит! Да что ты завис! Горе сплошно… Ай, ай, а, - шипит птица, спархивает на пол, машет крылом, едва не обожженным о горячий бок сковороды, - Мушка, а ты… не лезь, тоже поранишься! - перехватывает дивную смесь дракона с кошкой за ухо, оттаскивает подальше от разразившейся катастрофы, ласково клюет в холку.
- Все нормально, - отмахивается Хель. Стопка получающихся блинов весьма кривая, но ростовщик отправляет кусочек в рот и довольно кивает: съедобно.
- Так что, расскажете про свое приключение? - ехидно не унимается птица, синей вспышкой удерживая Циссу от возможных поползновений в опасную зону, - что за зубастые тентакли вас отделали? Хотя судя по вашим лицам… и шеям, - в голосе прибавляется садистического озорства, - они вас даже здесь нашли. Вы бы проверили: вдруг там еще кто на первом этаже притаился. Какое хтоническое чудовище… Мышь! МЫШЬ!
Синий всполох пролетает через всю кухню — стремительно настегает зверька в самом углу, почти скрывшегося за грудой распотрошенных коробок, занятых книгами, газетами и осколками испорченных предметов. Когти сжимаются вокруг хрупкого тельца, звучит жалобный писк…
- Корвус, стой!
Поздно. Хель не успевает, лопатка валится из рук на пол, мышь забирает в лапах победно смеющейся птицы. Корвус уже возвращается к своей гостье, протягивает добычу. Хель, беззвучно и бестолково ругаясь, тянется сполоснуть кухонную утварь. Горит очередной забытый на сковороде блин. Корвус роняет мышиную тушку под носом у Циссы.
- Это тебе, красавица, я слышал, что кошки любят мышек. Угощайся!
Отредактировано Хель (2022-07-26 19:17:46)
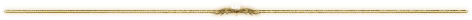

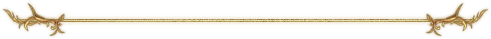
Мгновение кажется: человек замолкает.
Пальцы чувствуют чужое дыхание на ладони, покрывающей лицо: частое и влажное прикосновение губ после судороги удовольствия — в излом линии жизни. Вильям не спешит убирать руку, наслаждаясь моментом. Драгоценная тишина без ответных признаний — та боль, которую хочется принять на сердце. Вместе с искоркой умирающей надежды: «А может?..» — но нет.
Не может.
Ростовщик гладит с лаской поверженной стороны, но выходит из боя победителем. Ощущение невысказанных чувств, желанных слов саднит на коже: «Проигнорировал. Не ответил». Страшно признавать: ты просишь исхода, который самого тебя страшит. Ничего не меняется ни в лице, ни в голосе человека, лежащего под тобой: та же грустная отрешённость во взгляде. Те же серые глаза под короткими ресницами, изгиб длинного носа. Вильям лишь на мгновение поворачивается, чтобы увидеть чужое лицо в профиль. Больно — и отвернуться обратно. Ласка тёплых пальцев по коже кажется утешением, подаренным бездомной собаке. Когда хотят только погладить — и пройти мимо, улыбнувшись. Отвратительно настолько, что хочется повести плечом в сторону. Уйти от чужой руки.
Разум упорно кричит: «Растоптан. Обманут. Заигрался — твоя вина». Как неприятно чувствовать себя жертвой собственной ловушки. Вильям опирается подбородком о чужое плечо, клонит голову вниз. Глаза упираются в поверхность деревянного пола: на нём мокрые разводы от ранее влажных волос. И Вильям опускает с чужого лица ладонь и слушает.
О смерти и о подаренном бессмертии, и ему хочется горько рассмеяться. Они расстанутся — на дни, месяца, годы — но какой в этом смысл, если временная пропасть простирается куда дальше? Смертный и бессмертный. Тот, кто умрёт, и тот, кто останется. Вильям чувствует: зависть прорастает под кожу подобно горькому яду, несправедливость чужой боли кажется издевательством. Возможно, поэтому так приятно убивать хтоников: потому что любить их не за что. Обманули свою природу. Обманули смерть.
Хочется мучительно улыбнуться в чужое лицо: ростовщик говорит о склепе, который его страшит. Но лишь у одного из них этот скреп реален: в конце жизни смерть не пощадит лишь одного. И ощущение скорой кончины вгрызается шилом под рёбра. Как смеет Хель так говорить о смерти? Как смеет тот, кто отвернул от себя сущность кончины, бояться её смердящего дыхания? Как он может говорить о смерти с ним, с Вильямом? С тем, для кого смерть реальна, а не отзвук ночных кошмаров и дефект ослабленного тела?
Вильям шумно выдыхает. Закрывает глаза, ожидая: сколько ещё ему предстоит услышать и когда сдержаться от удара? Почти молит: лишь бы это скорее закончилось.
Хель говорит об убийстве мальчишки — а он вспоминает мальчишкой себя. Шестнадцать лет, из детского дома его забрали легионеры: пустить на пушечное мясо, бросить на передовую. Никому его не было жаль — вот правда жизни. Вильям и сам огрубел, и теперь ему не жаль тоже: ни Хеля, ни убитого мальчика. Правда жизни: выживает сильнейший. Тут не по чему болеть.
— Ты не виноват, — равнодушно произносит Вильям, и в его словах зреет холодность заученных фраз. — Ты был не в себе и не контролировал ситуацию. Глупо обвинять себя за то, что было. Отпусти. Перестань по этому страдать. Мёртвых не вернёшь. В своём сознании ты бы так не сделал.
Вильяма находят наощупь чужую шею: ости выпирающих ключиц под впадинами надплечья. Тонкие кости, тёплая кожа, мерный стук сердца за грудиной. Ладонь нащупывает амулет клыка в ярёмной впадине, притупленный зуб так и хочется прижать к большому пальцу. Вильяма гладит ладонью по шее ростовщика, щекочет подбородок, чтобы в неожиданной момент сорвать шнурок с кожи. Вильям знает: веревка порвана, но её можно восстановить даже простейшей бытовой магией. Он даже уверен: Хель обязательно так поступит. Такие вещи не выбрасывают просто так, с ними прощаются, отрывая от сердца, или уносят в могилу.
Хочется одного: чтобы человек почувствовал себя хоть на секунду свободным.
Свободным. Без груза на шее, который повесил на себя сам.
— Извини. Я случайно, — врёт Вильям. Кладёт амулет рядом.
Врёт настолько неаккуратно, что даже не пытается скрыть свою ложь. Вильям встаёт, размыкаются объятия. Не смотрит в лицо человека напротив: от него почему-то хочется спрятаться.
— Ты не вернешься, — выдыхает Хель, и в голосе слышится искренняя тоска и боль.
Ладонь тянется робкой лодочкой к щеке: Вильям отстраняется от неё высокомерным движением головы в сторону. Хочется ранить в ответ: за горячность обнажённых тел, за невысказанное чувство. За молчание тогда, когда не нужно, — оно хуже всего.
И Вильям молчит. Молчит минуту прежде, чем добить словами:
— Нет. Не вернусь.
И становится почти легко отвернуться и начать искать одежду. Чужие пальцы коснутся легко, невесомо: по рёбрам и животу, но эта ласка будет выглядеть прощальной. Как и поцелуй за ней — горький, лишённый прежней страсти. Можно найти языком излом трещины у угла чужих губ — и не сказать ничего.
Потому что так надо. За бурей всегда следует затишье. Некоторым кораблям суждено умереть в порту.
Вильям одевается, встаёт, следует за Хелем почти слепо, не осознавая, что он говорит. Пальцы подхватывают с прилавка череп с нефритовыми камнями в глазницах. Касание к голодной гладкой кости на мгновение бодрит и возвращает веселость духа. Вильям поднимается на второй этаж вслед за Хелем. Взгляд Корвуса впивается в лицо с задором чудовищного клоуна.
Вильям не может не улыбнуться.
— Чудесная птица! — пальцы тянутся коснуться синих перьев, но на последнем сантиметре гаснут вниз.
Вильям не может. Не знает почему, но не может. Существо кажется дружелюбным и расположенным: Вильям помнит, как Корвус предложил «оставить его в лавке». Как оставляют за стеклом сувенир, как на полку кладут ещё одну книгу. Так просто, но приятно до дрожи в коленках.
Вильям чувствует, что почти счастлив: фигура Хеля, испачканная в муке, с растрёпанными волосами, кружится около старой газовой плиты. Вильям смеётся.
— Корвус! — со смехом вскидывается он, хватая череп в ладони. — Знаешь, какая гигантская зубастая тентакля на Хеля нападала? Знаешь, что она делала?
Вильям касается чужой кости как может — чьих-то ещё живых зубов. Страсть поцелуя с черепом, пьянящая, обжигающая, демонстрируется не как нечто постыдное и противоестественное — а нечто нормальное до кончиков пальцев. Вильям льнёт ближе: указательные пальцы скользят под скуловые дуги, удерживая череп на весу. Язык скользит от нижней челюсти к верхней, размыкая их, из груди вырывается тихий стон.
— А Хель знаешь что? — смеётся Блауз. — А Хель так не умеет!
Веселье плещется в груди вместе с радостью остальных. Вильям вскидывается за мышью, которую ловит Корвус, готовый тотчас вырвать её из когтей. Корвус обгоняет: Вильям успевает заметить, что в глазах «Мушки» вскипает азарт, она тянется — но чтобы покушать.
— Нет, Корвус, ей нельзя, — строго отвечает Вильям.
Берёт бездыханную тушку мышиного тела в ладонь: кровь стекает по запястью. Свёрнута шея, тело пронизано орлиными когтями — уже труп. Вильям на секунду теряется, не видя мусорного ведра. Но потом вспоминает — и засовывает мышь в морозилку с лицом «Кажется, у вас так принято». Скачивает руки под ледяной водой и садится обратно. Всё нормально.
Стукнувшись с Хелем в тесном пространстве кухни и чуть не выбив у него из рук тарелку. Блины на них выглядят неровной лягушачьей икрой с намёком на съедобность. Вильям улыбается. Знает: из этих рук он примет хоть яд.
У них впереди целый вечер. Телефон утробно квакает присланным сообщением.
Дыхание замирает в груди. Зостер. «Вилл?» — загадочно маячит первое сообщение. «Ты где?» — второе. Вильям кусает нижнюю губу и откладывает телефон. Смотрит в полную тарелку и понимает: у него кусок в горло не влезет.
Аппетит отбивает так, словно бы тебе позвонил труп.
— О нашем самочувствии справляются, — улыбается Вилл, но в голосе читается тревога. — И нас уже ищут.
День — позорно мало времени. Жаль, когда и от него отрывают целый кусок. Вильям вскакивает со стула, резко разворачиваясь к Корвусу. Даже садится перед ним на пол, чтобы головы человека и животного были примерно на одинаковом уровне: так говорят с равными. Вильям улыбается:
— Мой друг, мне нужна твоя помощь. Переулок Лунный, 2. Кабак на первом этаже. Скажи, что ты от Хеля. Что задание выполнено и ожидается обмен. Не говори, что видел меня. Это очень важно! — Вильям смотрит на Корвуса с мольбой. С просьбой, с которой знает: её важно выполнить. — От этого зависит годовой запас мидий и ужин в ресторане. Пожалуйста, помоги. Слетай. Ты же самый быстрый в мире. 
Пропадает в миллионах навек когда-то
Самый дорогой человек, правда -
Слишком глубокая рана,
Забывать друг друга пора нам.

Нет. Не вернусь.
Почти не больно. Хель знал, что так будет. Его обещали убить на рассвете — так или иначе, свой нож в сердце он получит. И остается только смаргивать с ресниц непрошеную влагу. Делать вид, что все в порядке. Остался всего день — непростительно мало времени, чтобы насытиться чужим присутствием.
Стопка блинов на тарелке — как луч солнца, которому нет места на маленькой кухне. Тарелка чистая, но с надколотым краем, восстановить не доходили руки, купить новую — банально все время забывалось. Хель стряхивает с рук остатки муки, даже зная, что это бесполезно. На самом деле, ему все равно, что он похож на чучело с белой пылью в волосах и на коже — Вильям смеется, и это дорогого стоит.
Вот до боли знакомые руки подхватывают прихваченный с первого этажа череп, вскидывают выше… Хель вздрагивает, когда губы Вильяма прижимаются к выбеленным косточкам, язык скользит по сколам обнаженных челюстей… В груди что-то обрывается, руки дрожат. Хель чувствует, как жар заливает лицо. Это ужасно, нелепо, уродливо — румянец точно не делает хтоника краше. Очередной блин горит на старенькой сковородке, пока ростовщик пытается хотя бы взгляд отвести от действий бывшего напарника.
Блауз тихо стонет в поцелуй, и Хель вздрагивает по-настоящему, в животе становится жарко, голова кружится сильнее, чем на краю пропасти. Корвус истошно смеется, чуть не скатываясь на пол с поверхности тумбы.
Ростовщик молчит, отворачивается, до крови прикусывая губу, соскребает со сковороды блин. Темное пятно гари — словно ожог на неосторожной ладони. Хель моргает, часто дышит, пряча смущение за поворотом головы. Увиденное словно отпечаталось на обратной стороне его век: постыдно-прекрасное, искушающее, как зов бездны. И стон Вильяма. Руки дрожат, предательски звенит посуда.
Корвус срывается за мышью, Хель роняет лопатку и тянется поднять, ополаскивает под водой. Незаметно брызгает холодом себе в лицо, но это не помогает. Дыши, - напоминает себе ростовщик. Чудовище под ребрами ворчит, прикрывая за собой выломанную дверь клетки. Ему почти весело. Хель знает: он нарисует Вильяма тысячи раз. Все, что запомнил, каждое хрупкое мгновение, замеченное им. Он знает, что нарисует этот поцелуй с костяным черепом. Насмешка над Хелем. Насмешка над самой смертью — то, как приоткрывается давно омертвевшая челюсть.
Кажется: время и пространство стали вязкими, как дурной сон. Тяжело сосредоточиться. Хтоник вздрагивает, когда Вильям просачивается к раковине сполоснуть руки. Труп мыши отправляется в морозилку — и никто ничего не говорит об этом. Корвус довольно смеется и клювом ласково касается диковинной кошки. Птица почти очарована. Хель позволяет себе отчаянную шальную мысль, после которой будет еще больнее: хочется видеть Вильяма здесь. Не один день, а всегда. Смеющимся, счастливым. Стонущим в до стыдного страстный поцелуй.
Тарелка отправляется на стол, рука неуклюже сталкивает со скатерти пергаменты, снимает стопку книг — перекладывает на пол. Хель садится напротив гостя… и чувствует, как под кожей бурлит веселье. Страшное, опасное, шальное. И тянется за черепом. Пальцы подхватываю предмет с изяществом, какого ростовщик сам от себя не ожидает. Мимолетно скользят вдоль нижней челюсти. Хтоник подтягивает череп себе на уровень глаз — и смотрит…
Он вдруг понимает: этот череп действительно прекрасен. Нефриты искусственных глаз смотрят с вызовом, почти ободряюще. Пальцы срываются по затылочной кости, ласкают свеже вырезанную руну… и Хеля прошибает ударом почти реального электричества. Он видит две чашки в серой комнате, чувствует одиночество, почти тоску…
И поднимает взгляд к человеку напротив. Дыхание сбивается. Ему все равно, что подумает Корвус. Ему все равно, что будет потом — когда Вильям исчезнет. Важно только сейчас. И губы кривятся в улыбке — такой, словно не больно ни капли.
- Спорим, у меня получится? - выдыхает ростовщик и прижимается губами к черепу. Закрывает глаза и представляет… нужные губы, нужное лицо. Поцелуй смазанный, неуклюжий, на белой кости остается хрупкий след крови с пораненных губ. Хель целует череп самозабвенно, как хотел бы поцеловать Вильяма. Ласкает ладонью кости скул — так, как ласкал бы человека напротив.
- Мать моя Харибда, - выдыхает Корвус откуда-то со стороны. Слышится грохот сбитой коробки, шорох поврежденных книг. Хель вспоминает: вкус чужих губ, крепкие объятия, хватку пальцев, режущую глубже ножа. Хаотичность рваных движений, выбивающих из легких воздух, удовольствие — болезненное, мучительное, слепое… и стонет в поцелуй. Отчаянно, как в губы Вильяма в своем самом смелом желании.
Хель открывает глаза и с готовностью погружается в омут чужих глаз — до тех пор, пока Корвус синей вспышкой не вспархивает прямо перед лицом. Череп неулюже валится из рук обратно на поверхность стола, на нелепо аляпистую скатерть. Птица крыльями бьет товарища по щекам, заглядывает прямо в глаза.
- Ты в порядке? Хель, скажи, ты в порядке? Тебя полкой по голове шарахнуло, пока вы ремонтом занимались? Ты сколько раз за последние дни падал? Может, в больницу? У тебя сотрясение. Надеюсь, это не заразно! А вдруг… Вдруг это навсегда! О нет! Только некрофилии нам не хватало! Как чувствовал… в твоей тяге к могилам всегда было что-то нездоровое! Что мне делать?! Мы тебя вылечим! Хотя… нет, стоп, это… это как-то нетолерантно… Я принимаю твой выбор! Хель, я все понимаю! Это от тебя не зависит! Это одержимость, это болезнь, это химические процессы! Если нужно, я буду стоять на стреме на кладбище, слышишь? Для друга мне ничего не жалко!
Хель сдерживает рвущийся из горла хохот, птица уже мечется к человеку напротив, бьет крыльями по лицу Вильяма, чуть не наступает в тарелку с блинами, скидывает давно опустевшую сахарницу.
- Ты тоже, да? Это тентакли! Смотри на меня! Только не отключайтесь! Мы что-нибудь придумаем! О нет! Как я не подумал! Мушка!
Корвус срывается со стола, подлетает к подруге, клюв ласково касается холки, крылья бьют невесомо — почти нежно. Птица закрывает диковинную кошку собой, словно защищая:
- Мушка, тебе рано такое видеть! Не смотри на этих придурков, сами извращенцы и тебе психику портят. Ужас! И этому носатому я отдал лучшие годы своей жизни… понятно, какие полки они прибивали, все понятно… не бойся, Мушка! Ты вырастешь здоровой кошкой и сама выберешь, чего хочешь в жизни! Дядюшка Корвус всегда на твоей стороне, моя хорошая. Я приму любое твое решение, даже если это будет нездоровая страсть к ондатрам…
Хель чувствует: ему плохо. Не так, как от приступов, но как будто бы хуже. Хочется плакать и смеяться. Он роняет голову на сложенные на столе руки, от смеха трясутся плечи. Это почти больно.
Чужой гаджет на столе издает звук, вынуждая поднять голову. Хтоник видит, как меняется лицо человека напротив. Веселье и безмятежность, желанные, пусть даже издевательски неуместные из-за предстоящей разлуки, смываются холодным ужасом. Тревогой. Ростовщик выпрямляется и вглядывается в лицо Вильяма. Видит, как тот замирает над тарелкой… и отворачивается. Улыбка неискренняя.
- О нашем самочувствии справляются. И нас уже ищут.
Хелю не нужны пояснения: Сигма. Он помнит человека в баре, помнит очертания лица за завесой дыма. И руки пробивает дрожь. Он вдруг думает о том, что разлука страшит меньше, чем понимание: Сигма заберет человека напротив. Скует так, что не вырваться. Хель моргает, молча смотрит, как Вильям сползает на пол, как замирает перед птицей. Говорит как с равным. И Корвус, чувствуя серьезность просьбы, послушно замирает, внимательно слушает.
- Пожалуйста, помоги. Слетай. Ты же самый быстрый в мире, - выдыхает Вильям.
Корвус бросает взгляд на Хелю — быстрый, но пытливый. Непривычно осторожный. Хель кивает. Ему страшно — и за друга, и за Вильяма. Но он не имеет право мешать высказанной мольбе. Птица опускает голову, встряхивается. Думает.
- Ну если годовой запас мидий, то конечно, - в голосе слышится напряжение, но почти незаметное. Корвус вскидывает голову, мимолетно тычется клювом в ладонь Вильяма — ободряюще. И поднимается в воздух. - Обернусь туда-обратно, даже не заметите. Я самая быстрая птица в мире! Ну… не во всех смыслах, конечно, но… Хель?
Ростовщик протягивает руку — птица подлетает, бодает головой чужую ладонь. На всякий случай. И срывается в коридор — к специальному окну-дверце в крыше.
Хель выдыхает, трет ладонями лицо… и поднимается. Подходит к Вильяму и тянет к себе, поднимает на ноги. Он может быть достаточно сильным, когда это требуется.
- Тебе велели меня убить, - это не вопрос, хтонику не нужно подтверждение того, в чем он уже уверен. Пальцы касаются чужой щеки так, как ласкали черепную кость. - Что ты задумал?
Он подталкивает Вильяма к столу, оглядывается на нетронутую тарелку… и вспоминает слова, звучавшие в ресторане отеля под шум старенького магнитофона.
Поешь. Я понимаю твою тревогу, но, когда ты будешь без сил, тысячу раз пожалеешь, что дал эмоциям взять вверх над телом. Поешь. Хотя бы немного.
- Тебе нужно поесть.
Но руки скользят по чужой шее. Разум говорит о том, что нужно отпустить Вильяма. Нужно усадить за стол, заставить поесть, потому что человек напротив — все еще просто человек. Хрупкий. Смертный. В этой мысли, в этом осознании есть нечто кощунственное. Хель вдруг отчетливо понимает: они одни, не считая Циссы. А она уже бежит в коридор, гоняя несчастную муху. Хель отвлекается на миг, призывая самую простую магию на свете - вынуждая дверь кухни залопнуться.
- Знаешь, ты все еще можешь меня убить, - выдыхает ростовщик и целует Вильяма. Почти невинно, целомудренно касается чужих губ своими. А потом сползает на колени и тянется к ремню чужих брюк. Собственное желание пугает, но Хель знает: одному из них прикосновения никогда не доставляют боли. Хочется ласкать это тело, целовать каждый дюйм. Даже если это безумие.
Хель толкает Вильяма на стул, сам замирает на полу, выпутывает кромку чужой рубашки и запускает пальцы под ткань. Тихо стонет, касаясь обнаженной кожи, тянется прикоснуться губами. К подрагивающему животу — и ниже. Глупое желание. Сумасшедшее. Хочется доставить удовольствие. Хочется украсть у последнего дня как можно больше.
- Убей меня, - умоляет Хель, целуя, лаская чужое тело. Люблю тебя, - вторит разум. Беззвучно, больно выламывает сердце.
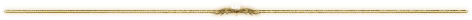
Это приятно.
Сладко.
Горячо.
Пальцы впиваются в деревянную поверхность стула до побеления костяшек, удерживая тело на весу в напряжении. Вильям смотрит на Хеля сверху вниз: глаза туманит поволока страсти и желания, прячет его взгляд за ресницами, заставляет медленно дышать через приоткрытый рот. Кислорода становится предательски мало, воздух накаляется. Чужие ладони вытягивают полы рубашки, прикасаются к животу. Они тёплые, горячие, касаются так, что сомнений не остаётся: хотят доставить удовольствие. Тело откликается на ласку волной мурашек по коже.
Вильям помнит. Прокручивает в воспоминаниях десятки раз — страстный поцелуй ростовщика и варёного черепа. От этой картины невозможно было отвести взгляд: преступна была даже сама мысль об этом. И Вильям смотрел: заворожённой коброй на заклинателя змей, смакуя каждое движение губ и языка, терзая собственный рот острыми зубами. Сдирая корки. Вильям наблюдал за тем, с какой страстностью поддаётся вперёд ранее робкое и замкнутое тело ростовщика — это завораживало. Он видел, как Хель бесстыден: в каждом своём движении, от губ до кончиков пальцев. Кажется, упавший на стол череп ещё оставил на себе разводы чужой ссохшейся крови. Красиво.
Это было красиво.
Вильям помнил, как он потянулся к нему через стол. Как склонил вперёд голову, оперевшись о край древесины, потянулся. Хотел поцеловать: нутром чувствовал, что Хель хотел того же. Повторить поцелуй собственный, повторить поцелуй чужой: не на макете мёртвой кости, а на человеке. Живом, дышащем. На том, кто может ответить, кто может перехватить инициативу, как чужие руки. Страсть настигла волной мгновенно: напротив — улыбающиеся в красивой улыбке губы, смеющийся рот, растрёпанные волосы с мукой на макушке — самая желанная вещь на свете. Даже руки, в которые Хель прячет лицо в истеричном смехе. Красивы. Каждым узором вен.
Вильям не может не повторить.
— Я тебя люблю, — срывается почти неслышимо.
Но он знает: Хель обязательно услышит. До того, как тучная масса большой синей птицы упадёт перед ними. Тогда останется только смеяться: чужое беспокойство сродни клоунской суете. А так хотелось другого: встать, схватить ростовщика за грудки, потянуть на стол и разложить прямо там же. Не слушать испуганную истерику Корвуса, игнорировать даже наличие разумной кошки под столом. Желание обладать сродни одержимости. На пике возбуждения отчётливо понимаешь: несколько минут назад от Хеля, говорящего не то и не о том, хотелось уйти. Одеться, хлопнуть дверью и не возвращаться: чужое молчаливое равнодушие кольнуло в самое сердце.
Сейчас же хочется обжечь снова. Обжечься самому.
Терзать, ласкать, гладить. Наклоненный череп так и остался на краю стола не просто печатью косвенного поцелуя, но и предвестником настоящего.
Вернуться в настоящее не сложно. Отпустить тяжёлый шум ускользающих в коридор крыльев, мягкую поступь кошачьих лап, следующих за мухой. Хлопок двери напомнит на мгновение:
— Ты забыл свои перчатки, — громко и с отголосками смеха в голосе замечает Хель, захлопывая дверь за собой. Азарт бурлит под кожей, на языке чувствуется привкус сигаретного дыма. Хель вглядывается во мрак, без труда находя знакомый силуэт. И улыбается — криво, почти пьяно. Знакомо стучат часы, темнота липнет к коже.
— У меня тут состоялся забавный разговор с… кажется, это был твой босс. Он говорит, что следующие сутки я не переживу. Так что я зачем зашел… подумал: чего тянуть? Верно?
Как только захлопывается дверь, Хель молит Вильяма о смерти.
Как только она захлопывается сейчас, всё повторяется.
Трудно удержать насмешку в груди над самим собой. И Вильям молчит, кусая губы: не отвечает ни на один вопрос о заказном убийстве. Оставляет эту тайну при себе: возможно, он полагается на интуицию и импровизацию. Возможно, уже отрепетировал каждый акт предстоящего спектакля. Сейчас важно другое.
Как к животу прикасаются чужие губы. Как клацает под быстрыми руками ремень-автомат. Можно опустить взгляд вниз: увидеть макушку, измазанную мукой, очертания длинного тонкого носа на опущенном лице. Вильям хочет прикоснуться к чужим волосам ладонью, привлекая внимание. Приятно. Хочется — безумно! Хель надламывает разум так, что сознание держится на последнем канате нервов. Даже не на канате — на тонкой верёвке.
— Посмотри на меня, — шепчет Вильям.
Касается левой рукой подбородка Хеля, обращает его голову на себя. Серые глаза прозрачно-льдистые в бликах рассветного солнца. К коже губ на углах рта хочется прикасаться. Там, где раньше проходил излом трещины, теперь ласковые пальцы. Гладят. Почти жалеют.
— Не надо, — Вильям закрывает голова и отрицательно качает головой.
Не с издёвкой, не с насмешкой. Не с брезгливостью — с нежностью. С почти бережным отношением к Хелю, который представляет из себя нечто больше, чем разовое развлечение. Которого не хочется превращать в нечто пошлое. Не сегодня.
— Потом жалеть будешь. Лучше иди сюда.
Руки поднимают ростовщика под локоть наверх, тянут с пола в мягкие объятия. Страсть стихает, оставляя после себя болезненную нежность. Нос Вильяма утыкается в чужие ключицы. Пальцы ведут по спине, через одежду не удаётся прочувствовать чужих острых позвонков. Вильям обнимает мягко, не говорит ничего. Закрывает глаза, чувствует сердцебиение. Чужое — если примкнуть к груди. Своё, которое, кажется, отдаётся даже в спину. Время течёт подобно тягучей массе. Как давно улетел Корвус? Пять минут назад? Десять? Пятнадцать?
— Тебе ведь тоже предложили меня убить?
Я тебя люблю.
Три слова ложатся на кожу подобием клейма. Глубже, чем могут вонзиться зубы. Больнее, чем пробивающий клетку ребер клинок. Хель не знает, как это — когда тебя любят. Особенно: когда об этом говорят. Он не знает, что делать с этим непрошенным, но самым желанным подарком. В голову не приходит, что нужно подарить собственное признание в ответ — слишком страшно стать для этого человека клеткой. Удерживающим обхватом наручников.
У хтоника нет ничего, кроме себя самого и бесконечной боли. Он делится тем, что имеет. Дарит прикосновения бесчисленно обожженных рук. Оставляет поцелуй на подрагивающей от напряжения коже. Ему мало: оказывается, отдавать приятно. Приятно, даже когда боль выламывает судорогой.
- Посмотри на меня.
Хель поднимает голову, послушный чужой руке. Чужой воле. Смотрит снизу вверх: взгляд Блауза — пьяный, мутный. Такой, что хочется прильнуть еще ближе. Пальцы забираются под рубашку, ползут по коже, невесомо царапают ногтями. Хель не умеет признаваться в любви. Его признание — шальной взгляд, смазанный поцелуй над кромкой чужих брюк. Излом протянувшейся близ губ трещины, выдающей страх, тревогу. Боль.
Хтоник знает: он не пожалеет ни о чем, что может произойти. Даже если все закончится простреленной головой. Страшно — то, как этот человек на него влияет. Вспоминается смешок чужака, спрятавшегося за завесой дыма, снисходительность, с которой тот выплевывал слова. Почти жалость. Но Хель чувствует: его желания — не порождение магии.
Он запоздало вспоминает: Вильям ненавидит тишину. А ростовщик не знает, что сказать. Слов слишком много: желания скребутся в грудной клетке, горят под кожей. Слов нет совсем: только слепое наваждение.
- Лучше иди сюда.
Хель поднимается, скользит в распахнутые объятия, льнет к чужому теплу — как безумец, как тот, кому скоро на плаху. Мягкая ласка ранит сильнее, чем впивающиеся в плоть зубы. Хтоник клонится ближе, роняет поцелуй в спутанные темные волосы. Непослушные. Неидеальная деталь в обычно элегантном Вильяме. Кажется: два сердца шарахают в унисон, Хель закрывает глаза и носом зарывается в мягкость чужих волос.
- Тебе ведь тоже предложили меня убить?
- Нет, - отзывается ростовщик и чувствует, как губы кривятся в улыбке. Он отстраняется на миг, клонится к чужому лицу — нос к носу, глаза в глаза. Улыбается, почти смеется.
- Кажется, я твоего босса напугал, - признается хтоник и не удерживается от смешка, - он делал вид, что хочет предупредить. Смотрел из-за завесы дыма… твои сигареты пахнут лучше. А он дымил прямо в лицо — ужасный он лжец. Бесталанный. «До утра следующего дня ты не доживешь», сказал он, глядел на меня с жалостью. А я… чуть не рассмеялся. Чуть не сказал: знаю. Наверное, я выглядел сумасшедшим.
Рука скользит по чужой шее, гладит — невесомо, нежно, Хель придвигается ближе в предвкушении поцелуя. Не срывается, удерживается на грани, в считанных дюймах от манящих губ. Рассказывает дальше, чувствуя колкость ладони на собственных плечах, по спине — вдоль позвоночника. Обжигает даже через ткань жилета. Хочется обжечься сильнее, повести плечами, сбросить жилет и подставиться под касание — всей кожей.
- Я вдруг понял, кем он меня видит, смотрит не дальше плаща и чернил на коже. Его было легко обмануть. Помнишь, как ты ворвался в мой номер? Театральные жесты, энергия, улыбка… я сыграл опасного хтоника. Если мне и хотели предложить тебя убить, то попросту не успели. Не было даже шанса.
Хель знает: он нарисует это лицо тысячи, сотни тысяч раз. Пальцы скользят вдоль щек, касаются контура губ — запоминают каждую черточку. Хель чувствует, уверен, что сможет с точностью воспроизвести этого человека в своей памяти. Только этого всегда будет мало.
- Хочешь посмотреть? - спрашивает хтоник и прислоняется лбом ко лбу Вильяма, - я ведь ему слова после не дал сказать. Попрощался, ушел — и в отель. Поднял твои перчатки… Ты ведь специально их оставил, верно? Ты ничего не забываешь. Я поднял их и подумал: почему только раньше боялся к ним прикоснуться? Потому что казалось: есть человек, читающий стихи. И другой — тот, кого нужно бояться. А потом понял… что все не так. Что человек один. И мне он нужен любым. Уверен был: ты меня убьешь. Я этого хотел… и боялся.
Ростовщик закрывает глаза и мягко ведет губами по щеке Вильяма. Вдруг оказывается, что говорить легко, когда тебя слушают. Когда чужие пальцы вплетаются в волосы, ласкают с нежностью — почти с постыдной жалостью.
- Знаешь, что самое страшное? - выдыхает Хель, обнимает теплее, ближе, шепчет едва слышно, - я могу за тебя убить. И смогу жить с этим. Как настоящее чудовище. Корить себя за случайное убийство сто лет назад — и убить за тебя снова. Один раз или двадцать. Я и сам себя ненавижу. Чудовищная тварь, которую не вытравишь. От которой не деться никуда. Я другой жизни не помню. Может, ее и не было? Может, я и есть монстр?
Улыбается — пьяно, глупо. Как будто и не больно вовсе. Не страшно. Не целует сам — вдруг оттолкнут. Вдруг ударят. Открывает глаза и впивается взглядом в темные омуты. На дне — обещание смерти. Жажда жизни. Хочется завыть и прильнуть ближе. И голос срывается:
- Оставайся? - просит хтоник, почти умоляет. Даже зная, что все бесполезно. Заключает чужое лицо в ладони, не может ни на миг отстраниться. - Я… умру за тебя.
Признание — но не то. Хель клонится вперед — все же целует. Так, как черепу и не снилось. С отчаянием предстоящей разлуки, с горечью невысказанного страдания. Пальцы касаются чужих щек, ведут по ним нежной лаской. Хтонику все равно, сколько у них осталось времени. Губы срываются десятком колких поцелуев, невесомых, саднящих, как пораненная ладонь. Срываются к шее и целуют снова.
- Целовал череп — а представлял тебя, - с тихим смешком делится Хель, выдыхает у самого уха. Почти ждет, когда его оттолкнут. И льнет еще ближе. Руки забираются под чужую рубашку — скользят по коже, гладят так, словно боль — просто слово. Ничего не значащее. Не имеющее никакого значения. Страшно так, что ни выдохнуть.
Хтоник помнит: взгляд Вильяма через хрупкую поверхность стола. Расстояние малое и великое одновременно. Если бы не Корвус… Хель знает: то, чего нельзя никому, Вильяму — всегда будет можно. Коснуться. Даже ранить. Сорвать с губ и поцелуй, и болезненный стон удовольствия. Ростовщик может произнести с тысячу признаний — искренних, больных, только чувствует: всего будет мало. Он не может повторить самого важного… и это ему не простят. Он и сам себе не простит, а потому каждой боли так мало, каждое касание такое шальное и жадное.
Хель знает: будет больно. Сейчас больно, а потом — того хуже. Но пальцы не дрожат, когда тянутся распахнуть чужую рубашку — прижаться к коже. Хтоник соскальзывает на пол без изящества, словно куль с мукой. И тянется вперед, целует каждый дюйм кожи, до которого может добраться.
- Не пожалею, - обещает ростовщик, позволив себе мимолетный взгляд. Ему хочется быть всем, ему хочется показать, пусть не словами, всем собой: люблю. В шальном взгляде серых глаз плещется почти безумие — и нежность такая, как не посмотришь даже на самую ценную вещицу в антикварной лавке. Бледная подрагивающая кожа, опухшие от поцелуев губы, омуты глаз. Жарко.
Хель помнит, как звучит чужой стон, от которого под кожей горит больнее, чем в вулканическом пламени. Руки скользят по напряженному животу и срываются ниже продолжением ласки. Хочется услышать стон удовольствия. Хочется быть его причиной.
Хтоник замирает, надеется, ждет, когда чужие пальцы вплетутся в волосы. Сам прижимается ближе — ласкает губами, ведет языком. Снова поднимает голову и заглядывает в глаза с болью ждущей пинка собаки.
- Помнишь, ты читал мне стихи? - выдыхает ростовщик. Так, словно говорить сейчас хоть сколько-то может быть уместно. - Я уже тогда понял, что ты меня погубишь. А после... когда ты приставил пистолет... тогда я понял, что тебя люблю.
Слова - тихие, почти неслышные. Удар сердца способен их заглушить. Хель чувствует, как лицо заливает жар. Сказать важные слова - страшно. Ласкать обнаженное тело - всего лишь больно. Как бы хотелось, чтобы менталист проник в мысли, чтобы не нужно было говорить. Хочется умолять об этом: возьми все сам.
Возьми - каждую мысль, каждое чувство.
Меня.
Отредактировано Хель (2022-07-28 19:16:59)
Чем лучше цель, тем целимся мы метче.
("Ромео и Джульетта", Бенволио, пер. Б. Пастернак)
Чужое тело в руках податливо послушно. Хочется прижимать к себе: гладить по спине через ткань плотного жилета, касаться линии роста волос на затылке. Хель — рваная рана, оголённый нерв. Заряженные током провода, которые бьют при касании в ладони.
Вильям слышит мерное дыхание, чувствует биение сердца под острыми рёбрами. Талия ростовщика тонкая, астеничная: ладони могут пересчитать рёбра, едва касаясь оголённых участков боков. Чужое тело так близко: хочется утонуть в излёте ключиц, целовать каждый сантиметр кожи на израненной шее. Она даже с виду — как карта страданий. Вильям видит перед глазами её резкие изгибы: слева — ссадина от укушенной раны, справа — дорожка несдержанных поцелуев. Дыхание Хеля медленное, глубокое: он хочет говорить.
И Вильям даёт ему то, чего он так желает.
Слушает.
О ранах, о сомнениях, о памяти. Об убийствах, о чувствах, о прошлом. Невозможно изменить своей привычке: улыбка сама выступает на лице, когда трюк с перчаткой читают как открытую книгу. Вильям отвечает без слов, пригашенным кивком: он оставил перчатки неслучайно. В его жизни вообще «случайностей» не бывает. «Истина расчётливости над вуалью беспечности» — Хель вскрывает эту тайну как фисташку, вскрыл уже давно. И тайну не хочется прятать, спорить, защищать — иногда приятно признать несовершенство собственной маски.
Молчаливый Хель говорит много, болтливый Вильям, на удивление, мало. В этом ещё одно из их главных отличий: редкие слова одного звучат как откровения для распятия, шумная речь другого — словно бесполезный шум радио. Вильяму греет душу: он знает о человеке перед ним намного больше, чем человек напротив знает о нём.
Это как унести с собой тайну в могилу. Хотя разум не даёт обмануться: ростовщик смотрит дальше биографии. Он выковыривает нужное из камня как артефакторик и ищет что-то своё. Находит.
— Оставайся? — чужая речь звучит с мучительным немым надрывом — Я… умру за тебя.
Больно. Вильям горько улыбается в чужие глаза, наказывая человека молчанием: как когда-то Вильяма наказывали самого. Они оба знают: это приключение закончится сегодня. Так скоро, что не передать словами. У них не останется даже вечера: скудный обрывок дня они будут вынуждены провести порознь. Почти тоскливо осознавать: можно было отключить телефон, выторговать у судьбы ещё пару дней затишья — но тогда и отрывать от сердца было бы больнее.
— Невозможно удержать ветер в клетке! — смеётся Вильям и знает: правды в его словах намного больше, чем красивых эпитетов. — Я не люблю привязываться к месту.
У него и возможности не будет.
Вильям тянется к поцелую в ответ, ощущая всю вложенную в него горечь. Больно, прекрасно: чужие губы неумолимо терзают его рот, пальцы ведут вдоль линии скул к щекам. Хочется сжать хрупкое тело в сильных объятиях до хруста костей, показать все свои чувства! Но остаётся терзать в ответ: наглостью языка, перехватывающего инициативу, лаской рук, срывающимися вдоль спины. Заводит. Будоражит.
— Целовал череп — а представлял тебя, — страстно выдыхает Хель в лицо, и его глаза млеют от страсти.
— Я так же плохо целуюсь? — иронизирует Вильям и срывает шнурки чужой одежды.
Страсть вновь захватывает с головой: в неё хочется окунуться как в омут, упиваться ей как дорогим алкоголем. И Вильям отчётливо понимает: сейчас власть ему не принадлежит. Он всецело отдаёт себя другому: под лаской рук, языка, губ чувствуется удовольствие, связанное с непривычным смущением. Хочется вжаться спиной в поверхность стула, ссутулиться, спрятать взгляд под волосами. Чужие откровенные прикосновения заставляют чувствовать себя обнажённым даже в одежде. Почти бессильным. Пальцы пропускают между собой пряди непослушных жёстких волос, мука остаётся на ладонях. Вильям не знает, сколько длятся мучительно постыдные мгновения. Тело пытается сдерживаться…
Пытается сдерживаться…
И не сдерживает стон. Тяжело понять его природу: слова заводят не меньше прикосновений. Они как желанный подарок, который тебе преподнесли на блюдечке. Ты сам его хотел — бери. Забирай — вместе с постыдно-откровенной лаской ломаются любые преграды. Вильям после теряет счёт времени, срывается вниз: уронить ростовщика на пол, нависнуть сверху, получив свой наркотик удовольствия. Пальцы скользят сквозь пальцы, тело астеничного торговца редкостями кувыркают по поверхности дощатого пола: с добрым смехом, с неприкрытым желанием.
Хочется целовать это лицо: нос с горбинкой, пространство под глазами, впиваться в искусанные губы с остервенением убийцы. Упиваться властью, которая вновь возвращена в нужные руки. Склониться, произнести эхом недавних слов:
— Спорим, у меня получится? — и добавить. — Лучше?
Подсадить чужое тело на стол рядом с тарелкой с блинами. Они уже давно остыли: о них никто не помнит. Надавить руками на плечи, заставить лечь: фигура мрачного ростовщика на скатерти с подсолнухами выглядит до комичного трогательной.
Вильям тоже умеет доставлять удовольствие.
Вильям тоже умеет быть бесстыдно-откровенным.
Оставить дорожку укусов вдоль грудины, щекотать носом живот, спуститься поцелуями ниже. Настолько, что дальше — непозволительно. Вильям, в отличие от Хеля, знает: он пожалеет. Но сейчас ему всё равно.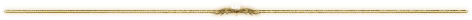
Минуты сливаются в единый поток времени. Кажется, что время перестаёт существовать. Вынырнуть из страсти всё равно что окатиться ледяной водой. Вильям предлагает Хелю сигарету и зажигалку. Почему-то ему кажется, что его опять проигнорируют.
Шум крыльев звучит откуда-то из коридоров. Они едва оба успевают одеться, и Вильям вспоминает первым: лавка закрыта. Хель сам её запер. И он срывается с ростовщиком на первый этаж: вновь Хеля волокут, будто торопятся…расстаться.
Первый этаж возле лавки ещё хранит следы воспоминаний на мебели: глаза Вильяма видят лужу в углу — от мокрых волос. Она почти растаяла. Двумя яркими флажками валяются подле прилавка на полу перчатки, сорванный амулет с клыком. Цисса умывает морду, потирая лапой нос. Идиллия.
— Открывай, — резюмирует Вильям Хелю, когда слышит стук в дверь. — Это твой кошелёк.
У «кошелька» тот же взгляд: снисходительно-величественный мужчина средних лет в тёмном плаще. Зостер переступает порог лавки с коричневым чемоданом. Видит лицо Хеля — дружелюбно тянется пожать ладонь. Опосля Вильяма — и даже фальшивая улыбка сползает с губ. Превращая лицо в бульдожье.
— Добрый день! — певуче протягивает Вильям с дивана, растягивая лицо в «масочной» широкой улыбке. — Зостер. Мы так вас ждали, так переживали! Посмотрите: Цисса жива и невредима!
Чудная помесь кошки и дракона ластится у Вильяма на коленях. Пальцы не могут не касаться ни пушистых кисточек ушей, ни тонкого длинного хвоста. Цисса мурлычет — Вильям очарован, трётся носом о её морду, больше похожую на голову ящерицы. От бледного тела существа-полукровки исходит едва заметное свечение: оно довольно. Пакет с птичьим кормом надорван с угла и опустел на треть.
— Хель — это просто какое-то чудо! — тараторит Вильям, подскакивая. Цисса спрыгивает с колен. — Я бы без него не справился. Вы не представляете, как ценно такое сотрудничество. Нет, ни капли. Каждую копейку отработал! Не человек — сокровище!
Театральное представление разыгрывается по нотам. Зостер смотрит на Вильяма с неумолимостью недруга. По глазам видно: не доверяет. Вильям крутится вокруг него назойливой мухой.
— Он честно выполнил свою половину дела! Зостер, позволите ему вручить? Торжественно, как напарник напарнику. Он заслужил!
Коричневый чемодан почти вырывают из рук. Он старый, с заплаткой на кожухе. И Вильям ставит его на тумбу, открывает, видя: внутри крупная сумма денег, не фальшивки. Половина миллиона. Как Зостер и обещал… Хелю. А не ему.
— Чудесно! — восклицает Вильям, щёлкает чемоданом и скидывает его за прилавок.
В голосе звучит неприкрытое веселье. Хель может угадать: в нём ни грамма правды. В нём гость, впервые вступивший на половицы лавки. Тот, кто умеет подстраиваться. Кто хорошо мимикрирует.
— Все довольны, все всё получили. Можем расходиться?
Тяжело понять взгляд человека за шляпой. Он смотрит на Хеля с ухмылкой. «Придурок» — едва не слетает с губ, но отчётливо читается в глазах. Вильям кружится беспокойным ураганом по лавке, пристраивается на том же диванчике рядом с Циссой. Пальцы тянутся коснуться белой шерсти, пробудить механическое урчание. Хель остаётся рядом лишь сторонним наблюдателем. Кажется, всё решают за него.
Зостер кривит губы в улыбке:
— Вилл, ты ничего не забыл?
— Ах, да! — вскидывается Вильям и тянется за пистолетом.
Будто ему напомнили о забытых в машине ключах. Курок возводится элегантным движением, рука не колеблется ни секунды. Привыкла убивать.
Глушитель мажет выстрел: он почти не слышен. Легко попасть в мишень, которая стоит рядом. Разительно легко — не отводить взгляд и не раздумывать, прежде чем застрелить этого человека.
Вильям улыбается довольно, как победитель. На груди ростовщика расцветает кровавая роза.
— Готово. Теперь всё.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-29 09:33:23)
А все, забытое мною, вспыхнуло вдруг — и сердце взвилось на миг.
И упало — и превратилось в пух.
Взгляд потух.

Хель помнит: первое прикосновение этого человека. Хватка пальцев, обтянутых алой тканью — и инстинктивное желание одернуть ладонь, отстраниться, избежать боли, вдруг ставшей острее обычного. Сейчас — под каждое касание хочется подставляться, униженно выпрашивая все новые ожоги. Страшно. Прекрасно.
Тело дрожит от удовольствия, хтоник не сдерживает стонов: все плывет, и руки тянутся обнять, прижать человека ближе. Забыть, что у них нет времени, что каждый миг — словно украденное сокровище. Находится вдруг грань, за которой боль исчезает, оставляя только наслаждение, только тоску по чужим рукам и губам. Хель не мог даже представить, что такое возможно.
Он не может сдержать улыбку, когда сползает на пол, устало приваливается спиной к дверце тумбы. Тело ноет, голова кружится. Все равно. Он смотрит на Вильяма, замершего с протянутой сигаретой. И колеблется целое долгое мгновение, а потом слабо качает головой. Не курит. Прикрывает глаза, выдыхает — тихо, неглубоко. Хорошо. Пережитое удовольствие вплавляется в каждую косточку. Сердце восстанавливает привычный ритм.
Хель знает: он запомнит каждое мгновение. В ушах еще звучит чужой стон. Желанный, а оттого сладкий, как музыка. Достойная плата за высказанное признание, что колет сердце. За каждое из признаний. Прекраснее может быть только искренняя улыбка, только нега в темных глазах, когда Вильям толкнул ростовщика на пол, с тихим счастливым смехом нависая сверху. Настоящий. Живой настолько, что не перепутаешь ни с одной из возможных масок. Хтоник чувствует: время утекает нещадно, и рука тянется прикоснуться вновь — просто накрыть чужие пальцы. Насладиться прикосновением, вдруг растерявшим всякую боль. Осталось только живое тепло. И губы кривятся в улыбке, лишенной и грусти, и горечи. Почти красивой. Хель смотрит на самого важного человека в своей жизни и понимает: это стоит всего. Любых сил. Расколотого вдребезги сердца. Любой боли.
Тишина оседает на губах тихим выдохом. Оседает на гладкой поверхности стен и дощатого пола. На подрагивающем расслабленном теле, на котором узор чернил сбивается больше, чем обычно. Пульсирует, наливаясь то яркой чернотой, то почти молочным серебром — кажется, счастья слишком много, чтобы оно поместилось под кожей.
И когда звучит шорох за стенкой, тишина бьется, как хрупкий фарфор. Сердце заходится снова, пальцы срываются, мешая как следует зашнуровать жилет. Дверь распахивается под мановением руки, впуская беспокойную птицу. Синева перьев кажется почти неуместно яркой и режущей взгляд. Корвус устраивается под потолком, на краю подвесного ящика, уже открывает клюв…
- Потом, - отзывается Хель, улыбаясь другу. Потом он расскажет. Потом он вытерпит не один допрос. Все — потом. Сейчас времени ужасающе мало. - Оставайся здесь, хорошо?
- С чего бы я…
- Оставайся. Пообещай, Корвус, - Хель чувствует, что бы ни случилось внизу, в уютном свете любимой лавки, друг не должен этого видеть. Не должен быть свидетелем, еще одной душой в капкане. Он видит, как птица обидчиво замирает, как во взгляде полыхает недовольство, смешанное со страхом. Как будто Корвусу кажется, что без него товарищ пропадет. Как будто птица искренне верит, что его заботы хватит защитить человека. Человек захлопывает за собой дверь и скатывается вслед за Вильямом по скрипучей лестнице — в неприятной, колкой, как край осколка, спешке.
Взгляд цепляется за детали: за яркие пятна сброшенных перчаток, матовый блеск амулета — без его тяжести собственное тело кажется невесомым. Легким. Навести порядок — быстро и просто. Спрятать амулет под прилавок, протянуть Вильяму его перчатки. Перчатки палача. Сердце пропускает удар, но губы улыбаются.
В глубине души Хель чувствует: есть вещь, что не изменилась. Этот человек станет его смертью. Через час, через день или через бесконечную череду лет. Всегда будет только он, и только из его рук хтоник примет любую боль. Безропотно. Ладонь удерживает чужие пальцы чуть дольше, чем требуется. Хель чувствует: это прощание. Настоящее прощание. Не то, что свершится перед чужим внимательным взглядом. То будет игра. Но сейчас… он улыбается, как самый счастливый человек на свете.
Хочется сказать… столько всего. Но поздно. Невысказанное останется навсегда под тяжестью закрытых век. Не хватило времени, хотя Хель знает: он и так украл больше, чем мог себе позволить. С губ срывается самое важное:
- Не отводи взгляд, - просит ростовщик.
Он доверяет этому человеку. И вместе с тем чувствует: будет больно. Страшно. И все закончится плохо. Последнее желание приговоренного — умереть, глядя в омуты любимых глаз. Такое ничтожное желание. Такое страшное.
Хель игнорирует слова о кошельке — ему безразличен гонорар. Единственная желанная награда сорвана с чужих губ стоном удовольствия. Хтоник открывает дверь с щелчком слабо протестующего замка. И отступает, пропуская гостя.
Зостер таков, каким Хель его помнит — даже без завесы дыма лицо кажется мутным, непримечательным. Смазанным, как на плохо получившейся фотографии. Этот человек все еще плохой лжец: он смотрит на Хеля довольным тяжелым взглядом, а потом замечает того, чью жизнь хотел выбросить на обочину, как использованную салфетку. И довольство тает, смывается, как фальшивая улыбка с губ. Хтоник позволяет себе чуть склонить голову, скривить губы в усмешке. Ему все равно, что о нем подумают.
Ростовщик отступает, замирает у прилавка, бедром привалившись к столешнице. Глядя на разворачивающееся представление: в лавке становится душно. Вильям суетится, как беспокойный кот, играя обычную роль. Того, кто пришел сюда несколько дней назад. Палач в красных перчатках, безошибочно знающий, как нужно встать, как улыбнуться, как протянуть слова.
И Хель чувствует: больно и страшно, когда искренность смывается. А он все еще находит ее за фальшивой маской. В том, как на долю мгновения дрогнули пальцы, как ресницы дольше обычного скрывали знакомый взгляд. Мелкие детали складываются в картину, многим более ценную, чем театр одного актера.
Вильям поет сладко, а Хель почти не слушает. Только… смотрит. Он знает: в словах нет ничего, они пусты, как музыка колокольчика над дверью. Просто звон. Отвлекающий маневр. И становится страшно. Он вдруг чувствует: не ошибся ни в чем. То, что было, то, что чувствуешь… ничего не изменило. У каждого своя клетка. Никто из них не властен над своими желаниями.
Стол подается под тяжестью коричневого чемодана. Хель даже не смотрит на деньги — они не имеют значения. Но он почти чувствует тепло близко замершего тепла. Замечает, как уверенны движения. И хочется улыбнуться. Глупо утешать своего убийцу, но так хочется признаться: я не верю твоей маске. Так хочется…
Улыбка становится печальной. Хель смотрит: на незваного гостя, не плаача, но убийцу опаснее многих. Не опаснее даже, просто… страшнее. И совесть на миг успокаивается, соглашается, что ни один из монстров, проведших вместе последние дни не сравнится с тем, что так приторно улыбается, принимая решение о чужой жизни. Вильям замирает на диванчике, почти правдоподобно спокойный, ведет пальцами по сияющей шерсти чудесного животного. Цисса, - Хель дарит ей свой печальный взгляд. А потом вновь смотрит на бывшего напарника.
Он заранее знает, что должно произойти. Предчувствие разливается в груди предвестником скорой боли. Хель жалеет, что забыл прихватить трость — пальцы впиваются в край прилавка, тело напрягается едва заметно. Опасно, - ревет тварь в подреберье, выпусти. Нет, - тихо отзывается Хель. Чужие глаза — самый желанный омут.
- Вилл, ты ничего не забыл?
- Ах, да!
Время замирает. Мгновения складываются в вечность, и Хель видит все словно сквозь толщу воды. Как Вильям тянется за оружием, как выпрямляется уверенная рука. Взгляды сливаются в бесконечность.
Влюбиться, сорваться в пропасть, сойти с ума. Хтоник не жалеет ни об одном мгновении: он за три дня получил больше, чем многим доступно за целую жизнь. Он бы и сто лет променял на еще один миг рядом с этим человеком. Но у него даже минуты не остается.
Боль — яркая, горячая, - пробивает грудину. Хель рвано выдыхает и не отводит взгляд. Кажется, Вильям не задумался ни на миг. Кажется: вот он настоящий, палач, убийца, мучитель. Кто угодно, но не человек, которому стоит отдать сердце. Ростовщику все равно.
Он ждет, когда придет спасительная тьма, но держится до последнего — впивается взглядом в желанные глаза. Молчит, почти до крови прикусив щеку изнутри. Плевать, что больно. Что страшно. Он знал, чем все кончится. Тело не падает, словно соскальзывает на пол. Сил нет. Ладонь тянется прижаться к пульсирующему источнику боли. Бесполезно.
- Готово. Теперь все.
Хель улыбается своей смерти — пьяно, безумно. Боль прокатывается по телу не судорогой, но волной чистого незамутненного ужаса. Хтоник успевает подумать о многом. О том, как хорошо, что Корвус остался на втором этаже. Наверняка поглощает блины, радуясь забывчивости товарища. Наверняка думает о мидиях, которыми будет лакомиться потом… Ему придется справиться одному. Но Хель знает: друг справится, из них двоих именно человек — слаб и ничтожен.
Хочется что-то сказать, но поздно. Так ничего и не сказано. Молчание ужасно, и хтоник помнит: Вильям ненавидит тишину. Хочется утешить своего убийцу. Тело не слушается. Голова запрокидывается, но взгляд не может покинуть родные глаза. Они важнее всего на свете. Важнее подступающей тьмы. Сердце в груди не бьется — пульсирует, изливаясь кровью. Сказанное в пылу страсти оказывается пророческим.
Я умру за тебя.
Уже умираю.
Так хочется… чтобы Вильям проник в голову. Чтобы прочел последние мысли. Это плохо, неправильно, это чудовищнее, чем пробитое пулей сердце. Но Хель умоляет взглядом: прочти. Хоть самую слабую тень. Последние слова не сорвутся с губ.
Не жалею ни о чем.
Хель помнит: как чужие руки удерживали на самой грани, не давая сорваться. Как ласкали, даря вместе с болью чистое наслаждение. Из всех сказанных слов важнее всего — те, что Вильям выплюнул с болью признания.
Я ненавижу хтоников. А в тебя влюбился.
Дыхание замирает. Хель помнит: пламя в темных глазах, безумие отражением его собственного. Поцелуй на краю пропасти. Болезненный стон несбывшегося наслаждения. Поцелуй, потерянный меж чужих лопаток. Столько мгновений, в которых можно потеряться. Хочется последней решительной глупости: задержаться в чужой памяти. Жить так, когда все остальное закончится. В чужих воспоминаниях. И хочется их покинуть, потому что последнее, оказывается, самое последнее желание: не причинять своему палачу боли.
Пальцы соскальзывают, руки опадают плетьми. Мир гаснет, а боль куда-то исчезает. Теряется. Хель знает: он не может просить больше ничего. Последняя милость — умереть под этим взглядом. Не на руках. Не с теплом чужого тела на коже. Ничего.
Холодно и страшно.
Сердце пульсирует и замирает. Мир тонет во мраке, но последними исчезают чужие глаза. Не исчезают даже — становятся вдруг всем. Хель проваливается в их спасительную глубину. Не попрощался с Корвусом. Какое счастье, что птица этого не видит. Какое счастье, что умирает только он. Сбывается желание: своей жизнью разменял все остальные. Расплата приходит, у нее ледяные руки и нежная ласка теряющихся в волосах пальцев.
Губы вздрагивают, смазывая улыбку безумца. Ни слова. Последний выдох.
Люблю тебя.
Люблю.
...
Если рвётся глубокая связь,
боль разрыва врачуется солью.
Хорошо расставаться, смеясь –
над собой, над разлукой, над болью.
(Игорь Губерман)
Цисса помнит: небольшая комната на первом этаже, уютное маленькое круглое окошко, через которое проникает свет. Шуршащая листва большого дуба снаружи. Когтеточка в углу, не тронутая острой лапой. Кошачий домик рядом дверью. Тоже нетронутый: Цисса больше любит пакеты. Или большие коробки, куда можно уместиться, и ткнуться носом в прогрызенную дырку. Будет торчать лишь длинный хвост с кисточкой, весело мотаться туда-сюда. Одиночество запертого существа почти не выглядит тяжелым. После тесной клетки лаборатории в целой комнате ей даже живётся лучше, чем обычно.
Цисса помнит и другое: веретеницу людей. Солдат, шестёрок мафии, что приносят ей еду и меняют воду, лотки. Выходить ей не дозволено. Уносить — строго запрещено. Она знает каждое лицо, кто её посещает — на десять минут внимания в сутки. И среди них выделяется одно — что тянет к ней руки, чтобы утешить и прижать к груди, поиграть. Его зовут Вилл. Цисса знает: он добрый. Вилл сидит с ней часами напролёт, приносит игрушки. Фантик от конфеты на длинной нитке, привязанной к ветке. Смешной пищащий мячик в виде ёжика. Он приносит книги: читает вслух о дальних странах и планетах. Цисса умная, она всё понимает. Разумна — просто не любит говорить. Но слушает и знает: этот человек её любит. Она любит его тоже.
Спустя короткое, но полное опасностей приключение Цисса вновь оказывается в его руках. Белая шерсть остаётся на чужом покрывале. Тело знакомого человека в лавке странного ростовщика просыпается от малейших шорохов. Цисса ступает на кровать, будит ласковым боданием в висок. Хочет пролезть под чужую руку, уткнуться в подбородок.
— Ты меня нашёл, — прозвучит в голове человека её голос.
Неземной — так ни звери, ни люди не говорят. Так шепчут феи в сказках. Русалки со дна морских глубин. Демиурги — в сознаниях своих последователей. Человек коснётся её лба, улыбнётся устало и сонно:
— Я никому тебя не отдам.
И Цисса верит: не отдаст. Вилл делится с ней тайной: она без дара второй жизни лишена какой-либо ценности для «охотников». Для всех, кроме него. И Цисса улыбнётся: растянется в улыбке морда, похожая на морду ящерицы. Она знает: они будут жить на Лирее. У человека в красных перчатках нет кровати, он спит на полу на матрасе. И ей будет хорошо: каждый день слушать трель телевизора, играть с фантиком от конфеты. Ждать, когда он приедет с задания. Обещания будущего равны обещанию счастья. Цисса даже готова мириться с тем, что их комната будет меньше апартаментов в «Сигме».
Она счастлива. Именно с этого дня.
И встречает…ещё одного друга.
Корвус ласково треплет её по холке, под его брюхом на насесте потрясающе тепло и уютно. Цисса хулиганит: нарочно не общается с ним на человеческом языке, хотя ворон говорит «лучше» хозяина. Ей здорово чувствовать себя кошкой. Можно даже вылизать перья чужака, будто это что-то совершенно нормальное. Украсть его корм. Пока двое людей на кухне увлечены друг другом, по пернатому другу можно скучать. Съесть муху, поймать ему мышь — и оставить в гнезде в качестве подарка. Цисса отчего-то уверена, что Корвус её непременно похвалит. Он любит замораживать мышей в холодильнике. Она поймала мышь большую, толстую. Такая охотница!
Он скоро прилетит. Совсем скоро.
В лавку приходит гость, и Циссу берут в руки как главное сокровище. Корвуса всё ещё нет, она ждёт. Цисса знает Вильяма наизусть, знает, когда тот разыгрывает спектакль по нотам. И почти заворожена: вот Вильям отнимает чемодан с деньгами, выбрасывает его в безопасную «зону», вот пытается воспроизвести в паре дружелюбных фраз попытку разойтись с миром. Ожидаемо не выходит. И пуля направляется в грудь тому, кто как долго жаждал смерти. Цисса переполошится, огни голубых глаз загорятся озорным пламенем: вот он! Донор!
Тот, кто отпустит её на свободу. Кто примет её дар, сделав…обычным существом. Без сияния шерсти, без магического потенциала. Освободитель. Разрушитель оков. Её подарок.
— Я готова! — прошепчет Цисса разуму человека, сидящего на диване.
Он вновь возведёт курок, нацелится на человека, стоящего в дверях и…не успеет.
Зостер оказывается быстрее. Его рука неумолимо вскидывается под плащом, направляет дуло в соперника. Цисса изогнётся дугой. Тело легионера, простреленное в грудь, обреченно повиснет на диване. Его лицо будет обращено к тому, без кого, Цисса знает, ему будет тоскливо. Хель тоже умирает на полу. Не отводит взгляда.
— Прости.
Поцелуй смерти наливается на груди, рубашка впитывает в себя алый цвет, руки теряют привычную силу. Хочется закрыть глаза. Зажмурится, уйти от боли. От отчаянного желания вернуть всё назад. Шекспир говорил: «Чем лучше цель, тем целимся мы метче». Забавно, как чудесно оправдывает фраза итог сегодняшнего вечера. Взгляд ненадолго касается лица Зостера, ликующего, довольного, и Вильям улыбается ему в ответ. Он не способен перед смертью исказить лицо гримасой ужаса. Клоуны всегда должны умирать с улыбкой. В этом их предназначение.
— Прости.
Но извиняется он не перед ним.
Слова впиваются под кожу подобно кровоточащей ране. Фрэнсис говорила точно так же: тоже просила не отводить взгляд, а он зажмурился на последней секунде. Ослабленное лицо Хеля, сползающего по прилавку, красиво в своём предсмертном танце. Страх в глазах, прокушенные губы. Вильям натягивает на своё лицо улыбку. Мученика — это всё, на что он способен, но всё же — ему хочется улыбаться. Крики последних мыслей ещё теплятся в ослабевающем теле напротив. Он слышит их: слова, которые так были важны тогда…меньше двух часов назад? Срываются с нужных губ последними откровениями.
Такой дурак. Хотел спасти, осчастливить всех — в итоге два трупа в одной каморке.
И становится почти смешно. Вильям заваливается на бок, касается холки Циссы. Прострелили не сердце — лёгкое. Долгая мучительная смерть. Кровь, выливающаяся из губ. Но он ещё может соображать.
— Иди. Ну иди же, — кашляет Вильям, толкая диковинное создание к умирающему телу ростовщика.
Шаги Зостера звучат с неумолимостью палача. Грубые руки в ссадинах подхватывают Циссу под лапы, уносят: надежда тает как мороженое под палящими лучами солнца. Вильям запоздало вспоминает пророческие слова:
— Может, мы оба умрём?
Действительно. Умирают.
Кровь смешивается с воздухом в горле, становится трудно дышать. Он никого не спас. Они умирают оба. Картинка смазывается перед глазами, оставляя перед собой бездыханное тело ростовщика. Голова Вильяма бессильно падает набок.
Цисса знает, куда её ведут.
И вспоминает: она вообще-то не кошка. Она куда больше — дракон.
Вне клетки, в отсутствие оков ей гораздо проще принять истинный облик. Голова увеличивается подобно размеру брошенного чемодана, тело вытягивается смертоносной гидрой. У му-шу длинное туловище, от пушистой шерсти — лишь скромные обрывки. Массивных челюстей хватит, чтобы проглотить человека полностью. Удара хвоста — чтобы снести несущую стену лавки, оставив огромный кратер на стене. Зостер ступает назад, по серебристой чешуе палят выстрелы оружия. Тело му-шу пуль не боится. Острые зубы смыкаются на человеческой шее, и дракон полностью проглатывает свою жертву.
На полу остаётся лишь коричневая шляпа.
Мягкая поступь кошки вновь обретает силу. Цисса умывается: перед главным праздником жизни ей хочется убрать кровь с подушек на морде. Быть красивой.
Вилл и Хель.
Хель и Вилл.
Два тела уже не дышат, не имеют возможности хоть сколько говорить друг с другом. Цисса ступает к дивану, морда, похожая на морду ящерицы, касается ослабевшей руки. Вильям уже не почувствует это прикосновение. Голоса не услышит. И она обращается к единственному существу на втором этаже лавки. Знает: сквозь пространство метров он впервые услышит её голос и определит без проблем. Узнает.
— Мушка никогда тебя не забудет. Корвус.
Становится почти легко: лечь между двух безжизненных тел, опустить морду на мягкие лапы. Закрыть глаза. У му-шу две жизни.
Она может отдать обе.
Никто не скажет, сколько пройдёт времени. Когда сознание возвращается к жизни, солнце Архей уже клонится к закату. Вильям открывает глаза. Первое, что он слышит — шелест крыльев большой птицы. Опираться на ладони неприятно и тяжело. Рубашка в области груди испачкана в крови. Но боли он совсем не чувствует. Поворачивает голову направо: Хель тоже приходит в себя. Хмурятся брови, болезненно изгибается рот, глаза приобретают признаки жизни. Вильям держится за голову: тяжело. Встаёт и настигает в два шага Хеля, помогая ему подняться. Будто они снова друзья.
Голова пустая совершенно, ничего не помнит. Руки тянутся поднять Циссу к себе. Вильям делает это почти на автомате. Не замечает сразу: реакции нет.
Нет.
И память ударяет в голову тысячей болезненных осколков.
Слабеют руки. Тело, кажется, перестаёт слушаться. Вильям сползает на пол, как подкошенный, кладя Циссу на себя. Пальцы подхватывают мягкое лёгкое тело под лапы: шерсть уже лишена света, она сухая и жесткая. Хвост холодный, нос сухой. Тело Циссы податливо мягкое, глаза закрыты. Уже никогда не откроются. Вильям прижимает её тело к себе, утыкается носом в холку коротких и жёстких волос. И кричит так, что почти надрывает голос.
В настоящих слезах нет ничего красивого: отёчное лицо, красный нос, судорожные всхлипы и тряска по всей спине. Оголённые провода, рыдания и боль. Сознание впивается десятками острых игр: он сам её убил. Сам.
Это невозможно вынести, невозможно принять. Даже думать об этом невыносимо. Самоуверенность клоуна трещит, сползает с лица маска непобедимого человека, оставляя после себя лишь зверя. Который ревёт, тоскует. Который потерял то, что дорого. Разрушил сам.
Он ведь никогда не промазывал. Никогда… Как могла решиться жизнь всего лишь одной осечкой пистолета?
— Отвернись, — больно цедит Вильям сквозь зубы Хелю и знает: второй раз он не промажет точно.
До лежащего на полу пистолета — один рывок. До встречи с неопалимой вечностью — одна пуля.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-30 08:56:43)
Смерть придет, у нее будут твои глаза.

Первое, что существует, - боль. Хель моргает, глотает воздух ртом, чувствует, каким тяжелым ощущается тело. Страх выламывает ребра, и от него никуда не деться. Первое воспоминание хтоника неразрывно связано с болью — теперь все повторяется. Спина жмется к твердому остову прилавка, все чувства обостряются до предела: свет заходящего солнца режет глаза, вспышки ярких амулетов, свисающих с потолка, вызывают рябь в глазах.
Кажется, будто тварь в подреберье раньше понимает: они живы. Осознание не приносит радости. Память безжалостна и напоминает обо всем: об острой боли в груди, о жестокой безжалостности любимых рук. Последнее, о чем хотелось попросить: не оставляй меня одного.
Желание сбывается лишь теперь — чужие руки тянут вверх, помогают подняться, и Хель на долгое мгновение заваливается вперед. Собственное тело — словно деревянный манекен, лишенный возможности двигаться. Хель отшатывается почти тут же — свежая боль яркая, не такая, как он помнит. И сердце… сердце? Бьется.
Слух улавливает: шорох крыльев издалека. Не шорох даже, попросту грохот и скрежет острых когтей по дереву. Дверь, кажется, поддается.
- Вильям, - выдыхает хтоник и облокачивается о прилавок. Рука тянется к груди, но находит лишь сухую корку крови. Раны нет, хотя больно так, словно пуля застряла в сердце, засела в самом центре тернового куста.
Все вокруг — острые края и изломы линий. Хтоник моргает, качает головой, пытаясь унять боль. Мысли мечутся в голове роем перепуганных ос, жалящих снова и снова.
- Вильям, - повторяет ростовщик будто молитву. Имя своего палача. И сердце сбивается, дыхание перехватывает, яркой вспышкой в сознании Хель видит чужое лицо, почти безмятежное. Улыбающееся — с надрывом, которого не скрыть. Видит омуты темных глаз. Завораживающие. Всегда.
Хель находит фигуру самого важного человека… и видит горе. Он раньше Вильяма осознает ужасное: хрупкое создание мертво. Словно игрушка, диковинная кошка покоится в руках друга. И Хель… понимает. Видит багрянец раны на чужой рубашке. Видит отрешенность лица.
И срывается, когда Вильям оседает на пол. Хтоник вдруг понимает самое страшное: ему мнилось, он знает, что такое боль. Он думал, что боль — это одиночество склепа. Это смерть, поджидающая в зубьях настроенного капкана. Он думал, что боль — это прикосновение к чужой руке. Но сейчас он видит, что такое настоящая боль. Ужас потери на бледном и обычно живом лице. Лице, которое может улыбаться светлее всех на свете. Сейчас искаженном гримасой отчаяния.
Хель падает рядом. Он знает, что не способен утешить. Он знает, что не способен даже понять. Он никогда никого не терял. Даже представить… не получается. Собственная боль кажется вдруг такой незначительной, что хтоник тянется вперед и заключает своего убийцу в объятия. Прижимается всем телом к вздрагивающей от рыданий спине, обвивает руками. Он знает: ему не унять чужой боли. Он может лишь попытаться ее разделить.
И когда Вильям тянется за пистолетом, хтоник не позволяет: волна пространственной магии смазывает контур оружия. Уносит прочь. Может, в жерло вулкана. Может, в случайный фургон с мороженым. Неважно. Хель крепче обнимает Блауза, прижимается носом к изгибу чужой шеи. И шепчет отчаянно, боясь, что его не услышат.
Боясь, что эти слова причинят лишь боль.
- Не смей, - шепчет хтоник, - если ты это сделаешь, значит, она умерла зря.
Слова жестокие. Ужасные. И Хель знает это. Он слышит, как с грохотом не выдерживает дверь этажом выше. Слышит, как в грохоте крыльев тяжелая, совсем не безобидная птица срывается вниз.
- Мушка! - зовет Корвус, зовет… с ужасом. Так, словно уже знает, что случилось. Птица срывается ниже, почти падая у чужих ног, слепо глядя на трогательно игрушечное тельце. Клюв тянется ближе, касается меха — так, словно птица верит: сейчас дивное создание оживет, откроет глаза, сорвется с чужих дрожащих рук.
Чуда не происходит. Хель молчит и закрывает глаза. Больно. Он прижимается так близко, как только может. Чувствует: как только разожмет руки — кончится все. И ему страшно. И горько — оттого, что собственная жизнь кажется самым бесполезным даром, полученным когда-либо. Хочется завыть.
- Не смей, - повторяет ростовщик и прижимается губами к рельефу бьющейся жилки на чужой шее. Страшно представить, что это сердце может остановиться. Он не знает, что такое терять кого-то. Он боится, что может это узнать. Не просто расстаться — но знать, что тот, кто дороже всех на свете, мертв. Смерть оказывается куда страшнее, когда смотрит не только в твои глаза.
Корвус клонится к человеку, птичья голова всполохом синевы прижимается к дрожащим рукам. По жестким перьям скатываются слезы — совсем как человеческие. Хель чувствует влагу и на своих ресницах. Обычно шумный, сейчас пернатый товарищ молчит. И в этой тишине ужаса больше, чем в любых рыданиях.
Чувство вины — горькое, как полынь. Хель чувствует: все могло быть иначе. Он видит пятно потерянной шляпы на полу почти у самой двери. Того, кто смеялся из-за завесы дыма, нет. Нет больше дивной добычи их приключения. Всей их цели. Последним кусочком паззла встает на место чужая боль.
Она не была просто добычей. Просто трофеем, который нужно достать. Она была другом. И руки дрожат, срываются вдоль чужих плеч, прижимаются к телу через ткань рубашки — сильнее, почти впиваясь в плоть. До боли.
- Вильям, - зовет хтоник, повторяет снова, слепо, болезненно. Он вдруг понимает: ему не простят. Остановленной руки, погашенного порыва. Не простят сказанных слов. Ему кажется: терновый куст прорастает сквозь кожу, впивается и в другое сердце, оплетает шипами… но даже колючей лозе не удержать того, кто свободнее ветра. Того, чья клетка распахнулась — ценой всего. Хелю никогда не возместить такой потери. Все, что ему по силам — покрывать поцелуями чужую кожу. Подставленную шею. Без малейшего намека на страсть. Слепо. Пьяно. Потому что кажется: так можно впитать хоть крошечную толику чужой боли. Он пытается впитать всю.
Он бы умер за этого человека.
Он умер за него.
И чувствует: этим лишил Вильяма чего-то несоизмеримо более ценного. Он не может коснуться светлого меха. Просто не может. Не замечает, что по щекам бегут слезы.
Хтоник впивается мертвой хваткой, хотя знает: руки разожмутся, если Вильям попросит. Хель ждет… чего угодно. Ждет ярости, боли — готовится подставиться под чужую ладонь. Ему хочется, чтобы стало больно. Корвус тоже плачет. Хель чувствует себя единственным, чья жизнь никогда не стоила спасения.
Он знает: если бы Вильям убил его еще там, в пещере под контуром спасительного портала — все было бы иначе. Вильям получил бы то, чего хотел. Цисса получила бы свободы. О том, что было бы с Корвусом, думать страшно. Но Корвусу все равно пришлось потерять друга. Маленького, но дорогого. Хель никогда не видел старого пернатого товарища таким, как рядом с этой диковинной кошкой. Заботливым и внимательным без капли злой насмешки. Терпеливым.
- Не могу, - вдруг выдыхает Корвус и срывается с места. Исчезает с грохотом крыльев, оставляя одних — ненадолго. Притаскивая со второго этажа гирлянду бумажных цветов с запутавшимся на ней колокольчиком. Роняет на пол у обтянутых брюками колен. Трясет крыльями, головой, словно силясь стряхнуть дождевые капли.
Он тоже не знает, что такое горе, понимает Хель. Он потерял едва обретенного друга. И он не знает, что делать с болью.
Собственная боль кажется чистым эгоизмом.
Вильям исчезнет. Хтоник чувствует это каждой клеточкой своего тела. Он молится, чтобы однажды хотя бы встретиться вновь. Он знает: не будет искать специально. Но будет надеяться. Сейчас — слишком больно даже думать об этом. Больно понимать, что каждый миг плотного объятия может стать последним. Оказывается, умирать не так уж и страшно.
Поверх бумажных цветов ложится выдранное из крыла перо — насыщенного синего цвета.
Корвус снова тянется клювом к потерянной подруге. И срывается с места — отчаянно, рвано. Хель, спрятав лицо в изгибе чужой шеи, слышит лишь шум крыльев. Он не сможет утешить друга. Друг не сможет утешить его. Каждый оказывается одинок в своей боли.
- Если ты умрешь, значит все было зря, - повторяет Хель и знает: это точка. Конец. После этих слов Вильям уйдет с грохотом захлопывающейся двери. Ради Циссы, может, заберет оставленные дары. Но ради Хеля не вернется.
И хтоник это принимает с покорностью приговоренного. Он знал, что все закончится плохо.
Он не знал, что настолько.
Он обнимает, теряясь в боли несуществующего ожога, в ломоте ноющих ребер. Терновый куст — весь его мир. Вильям — одни лишь шипы, о которые ранишься каждым жестом. Хель ждет, когда все закончится. Хель знает: сейчас ему самому почти не больно. Не так, как тем, кто ему дорог. Не так, как будет, когда он сам останется один. Наедине с расколотым отражением и болью впивающихся в ладонь осколков.
Ударь меня, - хочется умолять. Пусть станет больно сейчас. Пусть станет легче тебе. Как будто причинив боль, можно ей поделиться. Хель не сдерживается, зубами впивается в уязвимую хрупкость чужого плеча — не так, как укусили его самого. Всего лишь ощутимо, почти отрезвляюще. С болью ломающей судороги.
Все его обостренные чувства сливаются, погружаются лишь в одно: в стук чужого сердца, шарахающего так близко от собственного. Сбитого с ритма.
Хель вдруг осознает: он будет жить, пока это сердце бьется. Чего бы ни стоило. Он будет жить, пока существует Вильям. Только этот человек станет его смертью. Клятва выступает кровью укуса на чужой шее. Ему хочется боли в ответ. Хочется, чтобы ребра выламывало до хруста, чтобы удары врезались в плоть с безжалостностью сорвавшегося с рельс поезда. Хочется, чтобы чужие зубы терзали. Чужие руки. Кажется: может, тогда хоть одному из них станет легче.
- Я люблю тебя, - повторяет Хель слепо. Глухо. Сейчас в этих словах нет смысла. Просто других нет. Последнее признание в любви бесполезно - как его собственная жизнь. И чудовищно, как стекающая с подбородка кровь. Не оставляй меня, - хочется взмолиться. Сорваться на безумный вой. Чудовище в клетке ребер молит о том же. У них свое горе.
- Вильям.

Вильям ненавидит клетки.
Но можно ли назвать клеткой объятия, которые удерживают от падения в пропасть?
Ничего не будет как прежде. Ничего. Тонкая белая шерсть под руками лишь отголосок прежнего существа. Цисса бессильно клонит голову в сторону — кажется: всего лишь крепко спит. Метис дракона и кошки не умеет улыбаться, но Вильям видит: улыбается. Веки сомкнуты спокойной негой, из пасти торчат два мелких острых зуба, от больших голубых глаз лишь кромка роговицы. Под белыми кошачьими ресницами, невесомо-лёгкими. Хочется спрятать её от всех.
Хочется спрятаться самому.
Объятия человека — лучшее, что может оставить ему Хель напоследок. Вспышка исчезнувшего пистолета как удар по руке, как немой приказ: «Не трогай!» — от того, кто обычно к нему добр и ласков. Кто обычно как оголённые провода, как грустная песня о терзающих внутри чувствах — утончённые откровения в оболочке мрачного ростовщика. Вильям не помнит, чтобы когда-нибудь видел Хеля строгим: контраст внезапно открывающегося калейдоскопа режет сознание. Глаза ищут табельное оружие после того, как захлопывается пространственный портал. Вильяму кажется: от пистолета осталась тень. Но, разумеется, никакой тени нет.
— Не смей, — чужой шёпот как удар под рёбра, — если ты это сделаешь, значит, она умерла зря.
Умерла. Страдание накатывает новой волной боли, заставляет закрыть собственный рот ладонью: прижатая к губам рука гасит новый приступ гортанного стона. В котором ни страсти, ни любви — одно сплошное мучение. Которое даже заглушить нормально не получается.
Вильям знает: эти слова — самые верные. Самые нужные и правильные, если хочешь оттянуть другого от зияющей вечной пропасти. Они безжалостны — но разве Вильяму нужна жалость? Облачённая в слова, она лишь воспримется усмешкой для того, кто привык сносить всё на своём пути.
И всё же жалость есть. Хель обнимает его так, что кажется: хочет спрятать в себе, закрыть руками от всего, что окружает в мире. Пытается принять боль на себя. И Вильям срывается:
— Ты так хотел своей смерти. Ну что, доволен?
Укол обвинения ничтожен — Вильям и сам знает то, что недоступно другому. Хеля вели как убой короткой, на красивой дорогой. Его Циссе пообещали: как подарок, самый лучший, самый желанный — на день рождения. И это его рука, Вильяма, в самый важный момент дала предательскую осечку. Если есть в этой комнате виноватый, лишь тот, кто на важное мгновение промедлил, кто поймал пулю — своей грудью, а должен был выстрелить сам.
Укол обвинения лжив и неправилен. Хель прижимается к собственному телу так, что кажется: может принять и его. В этом ужасная правда жизни: если хочешь разделить с кем-то его боль, будь готов разделить с ним и вину.
Раненое животное больно царапается и кусает. Вильям царапает словом Хеля и прислушивается к себе: правда легче. Правда. Всего на какое-то ничтожное мгновение.
Хель знает: ему никогда не простят эти слова. Остановленной руки, погашенного порыва. Возможно, потому что прощать тут, на самом деле, нечего. В трёх днях опасного приключения он совершил столько ошибок, бесчисленное множество раз был на грани смерти. Поступал не так, говорил не так — но сейчас каждое движение и слово — будто ростовщик готовился к этому дню сотни лет.
Слова — самые верные.
Слова — самые правильные.
Вильям понимает.
— Посмотри.
Он не хочет, чтобы Хель разделил с ним боль. Он отчаянно желает, чтобы тот его боль понял.
Нарисованная магической вязью руна застывает у Хеля на ладони. И он может увидеть: трёхэтажный особняк «Сигмы» на Лирее, светлую комнату с круглым окном. Прогрызенные коробки, нетронутый кошачий дом, перевёрнутую миску. И Вильяма, таскающего конфетный фантик на самодельной удочке, громко смеющегося в игре. Му-шу может допрыгнуть до потолка в два прыжка, оттолкнувшись от стены. Вильям помнит её котёнком: едва привезённым из лаборатории комочком света. Помнит такую, как сейчас: подросшую, с длинным хвостом до метра.
Возможно, всё это Вильям показывает не тому.
Корвус.
Впервые получается коснуться его оперения без страха быть отвергнутым. Птица сама льнёт к дрожащим рукам, желая быть утешенной. И Вильям утешает: ладонь касается острого клюва, переливающихся синих перьев на голове. Корвус единственный, кто может всецело понять чужую боль.
Вильяму даже кажется, что Корвуса Цисса любила едва ли меньше, чем его самого. Шальная мысль иголкой колет в сердце: ей было бы лучше в лавке. В насесте, под крылом того, кто так похож на большую наседку. Кто касался её клювом в холку с почти что родственной нежностью.
— Корвус, — Вильям ласково ведёт по уху птицы, стирает с её глаз горькие слёзы. — Если бы с тобой что-нибудь случилось, у нас бы не было шанса.
Гирлянда бумажных цветов с маленьким колокольчиком вызывает улыбку. Слишком жестоко сказать: «Ей уже не понадобится» — и Вильям молчит. Вокруг ослабленной кошачьей шеи она завязывается словно девичье ожерелье. Колокольчик повисает между лап, перо пронизывает колечко гирлянды.
— Цисса любила игрушки, — единственное, что остаётся сказать Корвусу на прощание.
Вынырнуть из воспоминаний оказывается предательски просто. Чужие губы срываются по шее. Любят — не нужны даже слова. Хель зовёт Вильяма по имени, получая в ответ лишь тишину. Слова тут не нужны. И Вильям утопает в прикосновениях, как утонул бы в море. Чужие руки сжимают с самым отчаянием, губы — как лекарство от любой боли. Всё это кажется лишь зеркалом прошлого: комнатой в Астре, падением в склеп. Настойчивое «Вернись!», утопающее в прикосновениях к губам, лицу и коже. Всё это уже было — просто актёры сменились ролями.
Можно выдернуть пленника из склепа. Можно выдернуть пленника из боли?
— Если ты умрешь, значит, все было зря, — повторяет Хель.
Вильям выплёвывает то, что так отчаянно рвётся из сердца:
— Всё и так было зря.
Ласка утешительных поцелуев срывается в укусы. Вильям ведёт плечом, избегая. Не надо. Боли и так на сегодня слишком много, чтобы выносить ещё и другую. Прежде чем подняться, уйти, хочется последнего.
Прощальный поцелуй остаётся в чужих волосах. Прячется в объятии последней встречи — последней на долгие семь лет. Волосы Хеля грязные от муки, испачканы в пыли лавки. От них пахнет блинами и едва уловимо — запахом тела. Особенного почерка каждого из людей. Его отчётливо хочется оставить в памяти.
Вильям встаёт, подхватывая Циссу как младенца. Глаза вцепляются в угловой столик реставратора в углу. Кисточки, раствор, приспособления артефакторика, о которых Вильям не имеет малейшего представления. Последнее желание — увидеть Хеля за работой. Жаль, что ему ещё нескоро предстоит сбыться.
— Красиво, — говорит Вильям, открывая полупрозрачный футляр.
Внутри старинная брошка из белой кости. Крылья, вырезанные старанием кропотливого мастера. В фасеточных глазах потерян один из кристаллов. Брюшко с украшением черепа. Сердце делает болезненный кульбит.
Вильям вспоминает, как ростовщик отвёл взгляд при самой их первой встрече, стоило лишь напомнить…
— Сзарин бы понравилась. Красивая.
Так бывает в жизни: хочешь уколоть другого — колешься сам. Вильям натягивает на лицо издевательскую улыбку — противнейший подарок напоследок. На раскрасневшем от слёз лице он даже не выглядит настоящим.
Хель точно знает: Вильям уйдёт. Молча хлопнет дверью, потревожив колокольчики. Даже не попрощается. Лишь поднимет коричневую шляпу с пола, водрузив себе на половину. Она спрячет половину лица, но оставит издевательскую усмешку.
Старый консильери умер.
Отредактировано Вильям Блауз (2022-07-30 15:31:57)



Среди узких улочек на окраине города притаилась лавка редкостей. Целый мир за плотно закрытой дверью: уют заполненного сокровищами помещения. Всполохи лент, свисающих с потолка, плетения многочисленных ловцов снов. На полках вдоль стен — старинные книги, чьи корешки сами по себе — драгоценность. На застекленных стеллажах — вещи, чью ценность едва ли можно определить случайным взглядом.
На втором этаже, за сколом скрипучей лестницы — кухня, в которой света всегда больше, чем в самой лавке. Скатерть с подсолнухами на столе. Старенький ржавый холодильник, который никто никогда не починит. Коробки, полные книг и пергаментов, выдающие единственную страсть владельца.
Другая страсть спрятана за дверью спальни: нарисованное тысячи раз лицо, линия чернил на бумаге. Кляксы там, где перо слишком сильно прижалось к бумаге. Всегда закрытая дверь — всегда мрак комнаты. Расколотая старинная брошь где-то в самом далеком углу тумбочки, забытая, похороненная. Келья монаха превращается в келью безумца: стену расчерчивает ласка дрожащих пальцев, ведущих чернилами. Прямо над кроватью — омуты глаз, полные боли и муки. Несбывшихся обещаний.
Все это — будет.
Все это — есть уже.
Семь лет — бесконечно много, когда мечтаешь о встрече с единственно важным человеком. И ужасно мало, когда ждешь, чтобы боль ушла. Хель помнит все: от первого пожатия ладони, затянутой в красную ткань, до последнего поцелуя, потерянного в запыленных волосах. И бесконечно страшную ночь, которая протянулась на каждый из кошмарных снов в последующие годы.
Тогда, в темноте, Корвус находит в гнезде прощальный подарок друга — толстую холеную мышь. Острые сколы зубов, вероятно, сточили немало в лавке. След зубов других, более острых, более ловких — на подвернутой шее грызуна. И птица замолчит, вздрогнет… поймет: самая большая боль может поместиться даже в самом маленьком теле. В эту ночь птица не станет никого утешать.
Предчувствие ростовщика сбывается: когда захлопывается дверь, когда этот человек уходит, скрывая глаза за полями чужой шляпы… приходит настоящая мука. Ничего общего не имеющая с волнами боли, пожирающей хрупкое тело. Вой рвется из стиснутых челюстей. Страшно как никогда прежде. Человек не умер. Всего лишь ушел.
Но кажется: выдрал из чужого тела что-то самое важное. И рана кровит. Ночь проходит за запертой дверью ванной. В мерцающем свете перегорающей лампочки. Вода то слишком холодная, то слишком горячая — но хтоник не чувствует ничего, кроме пустоты внутри. Она хуже всех его представлений о смерти. Она действительно хуже смерти.
Слезы не украшают. Опухшее лицо, спутанные мокрые волосы. Дрожащие руки в крови. Зеркало разбито окончательно — в стеклянную крошь, застрявшую в сбитых пальцах. Хель знает: его боль ничего не стоит в сравнении с чужой. С болью тех, кто по-настоящему потерял друга. Он никогда не забудет подаренное воспоминание. И Цисса, хрупкая, сильная, вечно живая в его видениях займет место на страницах блокнотов. Комочком меха на коленях улыбающегося человека. Вытянутой стрелой, рвущейся за игрушкой. Силуэтом под крылом Корвуса.
Все это — будет.
Но больно уже сейчас.
Входная дверь остается открытой — в последующие дни. В последующие годы. Хель знает: ждать глупо и бесполезно. Но ждет, как последний забытый узник в разрушенной темнице. Дверь его камеры всегда открыта, но приговоренный ждет казни, на которую его все не ведут. Три дня… на самом деле, четыре — изменили больше, чем мирный уклад жизни. Изменили тех, кто живет на втором этаже лавки редкостей.
Тот, кто их не знал, не заметит отличий. Все та же смешливая птица, что придумает шутку из ничего. Но в темных глазах поселилась навсегда серьезность — та, что в темноте порой заставляет сжаться в гнезде под крышей, склонить голову… отыскать почти стершиеся следы чужих когтей на дереве. Вспомнить, как свисал хвост с кисточкой — будто тоже игрушка.
Все тот же ростовщик. Дрожащие руки, находящие силу лишь в работе. Запах типографских чернил и растворителя. Артефакты, приводимые в должный вид. Но… пустота в сером взгляде. Коричневый чемодан спрятан в подсобном помещении — потертый, давно лишившийся содержимого. В нем найдут себе приют выжившие, чужом избежавшие птичьих когтей грызуны. Оставят дыру в плотном боку, ведущую к застенным ходам.
Все превратится в историю. Однажды вновь зазвучит смех. Прозвучит трель колокольчика, в лавку заглянет старый добрый друг — женская фигурка, затянутая в черное, всегда скрывающая глаза. Улыбнется — так, как только она умеет… и ничего не дрогнет во взгляде ростовщика. В его сердце, почти переставшем биться. Спорхнет на прилавок Корвус, шутя, смеясь с самым далеким оттенком горечи. Потянется за принесенным угощением.
Испачканные чернилами и углем пальцы вернутся к работе. В конце концов окажется: с болью можно жить. Зная, что нужный человек тоже где-то живет. Отыскивая случайные следы его существования. Находя спасение в обманчивом видении, въевшемся под самую кожу: звон колокольчика, грохот распахнутой двери, всполохи рук в красных перчатках.
Вильям, - шарахнет сердце, и голова вскинется поймать ускользающий образ. Он растает, явив другое лицо, других людей. Тех, кто пройдутся по лавке — по половицам, на которых нет ни следа ни крови, ни влажных спутавшихся волос. Чужие глаза равнодушно осмотрят каждое из сокровищ.
- Какой интересный череп, - выдохнет кто-то…
- Не продается, - рука дрогнет, протянется к чужому подарку. Всегда рядом, всегда перед глазами, в одном касании от руки.
Хель не может расстаться с тем, чего с такой любовью когда-то касались пальцы того человека. С единственным, что может хоть на мгновенье прогнать кошмар мутной вязкой ночи. Пальцы обхватят выбеленную кость, притянут ближе. Губы коснутся — скуловой кости, рельефа виска с тонкой протянувшейся трещинкой. Вырезанной цифры на затылке черепа.
В конечном итоге, все станет воспоминанием. Историей, которую рассказываешь сам себе в темной комнате. Ищешь взглядом в новом зеркале, так же разбитом, давно стершийся шрам на шее. Не находишь. Процарапываешь его когтями. С силой кусаешь губы.
Боль выльется чернилами на бумагу. Рисунком. Сплетением слов — будто заклинанием магической вязи. Если человек — мастер воспоминаний, разве удивительно, что лишь их он и оставляет?
Ты шорох моих видений и боль, что срывает связки.
Герой самой страшной сказки.
Окажется, что стихами можно выразить то, что обычно не срывается с губ. И стихи ползут по поверхности стен — колкостью линий терновника. Спальня безумца. Любовь становится проклятьем, превращается в яд, который принимаешь желанно. Если дорогой человек оставляет после себя лишь боль, учишься радоваться и ей.
Семь лет пройдут целой вечностью.
Мигнет сообщением старенький компьютер, оторвется от поедания мидий пернатый друг. Странное дело — исчезновение людей, провал в земле… Птица заметит про гонорар, хтоник сразу о нем забудет. Сердце дрогнет всего на миг — предчувствием.
И Хель сорвется на встречу ловушкам и возможной гибели. Не боясь умереть: зная, что клятва не позволит уйти иначе как глядя в омуты самых желанных глаз. Ладонь дрогнет, коснувшись дверной ручки.
— Все, мне пора.
— Уже? Так, под ноги смотри, если куда-нибудь полезешь, и помни: приземляться надо на задницу… хотя с тобой один черт, мешок костей!
Хель выйдет на узкую улицу, улыбнется мелькнувшему призраку с руками в крови. Перехватит трость. С извечной своей молитвой отправится в путь.
Вильям.
[html]<iframe frameborder="0" style="border:none;width:100%;height:100px;" width="100%" height="100" src="https://music.yandex.ru/iframe/#track/4230309/2963603">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2963603/track/4230309'>Starman</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4650'>David Bowie</a> на Яндекс Музыке</iframe>[/html]
Отредактировано Хель (2022-07-30 13:54:31)
Вы здесь » Аркхейм » Завершённые эпизоды » На лезвии ножа