Это не любовь, это Дикая Охота на тебя!
Стынет красный сок, где-то вдалеке призывный клич трубят.
Это - марш бросок, подпороговые чувства правят бал.
Это не любовь, ты ведь ночью не Святую Деву звал!
Ты ведь ночью не Святую Деву звал!

Хель знает: он одержим. А еще влюблен. Он смиряется с этой мыслью так, как осужденные в конце концов — под топором палача. Череда мгновений кажется чередой ошибок, совпадений, сложившихся самым странным образом: никто из них не предполагал, что приключение может закончиться так.
Пальцы, испачканные чернилами, ведут по шероховатой поверхности стен. Рисовать все проще. Сперва было боязно, руки не отрывались от привычной ласки пергамента: теперь кажется, что он всегда этим занимался. Пальцы набирают краску без кисти, сейчас она не нужна. И рисуют — ломаными линиями, из которых, кажется, состоит весь этот человек. Хель знает: ненормально ждать кого-то так. Ненормально превращать чужое имя в молитву. Но… он не может иначе.
И на стене распахиваются темные омуты глаз. В них — весь мир. Хель знает: каждый творец в глубине души мечтает и боится создать Галатею. Ему же не нужно совершенство, он стремится приблизить видение к реальности. Мазком краски срывается родинка под знакомым глазом. Все, что ему нужно — в этих глазах. Хель знает: такое бывает раз в жизни. Такую больную зависимость порождает только человек, и это не закончится хорошо. Он знает, но все равно рисует, все равно сплетает слова в стихи так, как прядильщик сплетал бы нити. И ему кажется: он все это делал раньше. Вел краской по поверхности стен, улыбался собственным мыслям. Ему мерещится образ незнакомца где-то вдали, рожденный фантазией: человек в красных перчатках в зале, полном людей. Смех, яркий свет, свечи под потолком. Человек, чьи глаза — будто бездна, чьи движения полнятся энергией, самым пламенем жизни.
Хель знает: этого никогда не было, но видение не отступает. Темные глаза улыбаются, скользят равнодушным взглядом. Ты — весь мир, вдруг думает тот, чье видение так обманчиво прекрасно. Он влюбляется так, как влюбляются лишь однажды. Со всей смелостью еще не тронутого сердца, с одержимостью невосполнимой юности.
Видение прекрасно и далеко.
В нем — пустота. Оно разбивается крошевом осколков вместе со всем остальным, что бьется под чужим кулаком. Каждым хорошим чувством, словом, каждым желанием. Все они теперь лишь крошево ломких осколков, не имеющих значения или смысла.
Кость тоже ломается с хрустом. Нос с булькающим мерзким звуком полнится кровью. Чужая ладонь отпускает, дает грудой костей свалиться на пол. Уже не больно. Сердце пробито насквозь. Семь лет назад выпущенная пуля ранит второй раз — только теперь не спастись.
Мир вокруг трещит крошевом осколков, Хель приподнимается на четвереньки, смотрит в спину отвернувшегося человека. И понимает то, что знал с самого начала их сумбурного знакомства: Вильям — лжец. Тем худший, что лгущий себе самому не меньше, чем окружающим. Актер, заигравшийся на канате над пропастью, забывший, что внизу давно нет страховочной сетки. Каждое оказавшееся пылью слово можно вспомнить и камнем швырнуть в чужое лицо.
- Ты мне не верил, - с болью отзывается хтоник.
Пульс шарахает в висках. Хель слышит, как откуда-то издалека его зовет голос хтонической твари — и отмахивается. Отворачивается так, чтобы остаться одному внутри своей головы, но тише не становится. Сердце разрастается болью, как заколдованный замок оплетается лозами колючего терновника.
Хель садится на колени, с трудом зажимает нос и щурится. Больно, когда разбивается сердце, но еще хуже, когда вдребезги бьется весь твой мир. Хтоник видит страшную горькую истину в каждом мучительном жесте этого человека. Все еще любимого. Вот что страшнее всего.
Он смотрит на росчерк неумолимых плеч и видит, как чужой образ сплетается из видений, из фантазий и реальности. Так легко сейчас понять: чужие черты шиты белыми нитками, додуманы. Человек впереди кажется не цельным, а таким же крошевом осколков, перепутавшихся, запачканных чужой кровью.
Хочется разрыдаться. Кинуться следом, схватить за кромку одежды, за лезвия обжигающих рук. Он все испортил. Кажется: невозможно существовать ни вместе, ни порознь. Что хуже — страшный вопрос. Все больно так, что хочется… умереть.
Хель знает: все легче, чем отпустить этого человека.
И хочется сбежать. Мчаться от всей боли так далеко, как только возможно. Отыскать спасительное убежище в одиночестве, запомнить навсегда: ты был прав с самого начала, ты знал, что одному безопаснее, одному лучшему. Все кончилось плохо, как ты и ждал, как чувствовал.
Хель замирает.
Он помнит спокойное светлое чувство, что наполняло его каждый раз, когда он видел Сзарин. Она была хрупкой, словно распустившийся в темноте цветок, не ведавший ничего о солнечном свете, но будто знающий: где-то существует то, ради чего стоит пробиваться из тьмы. Смотреть на нее было приятно, спокойно и легко. Радовать ее, видеть улыбку. Слушать, как лавка наполняется ее голосом, не хрустальным, но по-своему мелодичным. Знать: она никогда по-настоящему тебя не увидит. Не увидит, как ты смотришь. Сердце в клетке ребер оставалось в безопасности, под защитой рассудка.
Вильям сломал все. Каждый прут реберной клетки, каждую косточку тела, вырвал сердце из груди — забавы ради, чтобы просто швырнуть на пол и раздавить ботинком.
- Ты не верил мне ни мгновения, - срывается ростовщик, - называл лжецом, обвинял, искал, в чем я перед тобой виноват! Сам находил причины! Ты все испортил, это всегда был ты! Смеешь обвинять меня. Снова обвинять? Не я убил Циссу! Не я решил действовать в одиночку. Я не собирался возвращаться к жизни, не собирался ничего у тебя забирать, свою жизнь тебе вручил, что ты с ней сделал? Выстрелил в сердце. Не лги себе: я видел, что жаль тебе не было. Ты поступил так, как поступаешь с хтониками. Я много нового узнал, пока разбирался с твоим ноутбуком. О твоих делах, о Сигме. О том, кто ты такой.
Что ты сделал с Фрэнсис?
Срывается беззвучный вопрос: что ты сделал со мной?
Роствощик поднимется, опираясь о стену, пальцы слепо ищут кромку трости, но забывают о ней, когда ладонь тянется зажать льющуюся кровь. Сломанный нос — не впервые. Болит что-то совсем другое.
- Ты ведь не любишь тишину, - сквозь зубы цедит хтоник, - так слушай. Ты не верил мне ни мгновения. Ты ждал от меня предательства каждый момент. Ждал, когда я слечу с катушек и демоном врежусь тебе в глотку. Когда уйду, когда скажу что-то не то. Тебе и причины не нужны. Швырнул мне эти проклятые наручники, вцепился в мысли о красном халате. Тебя не нужно предавать, ты делаешь все сам! Сам убиваешь тех, кому дорог! Ты убил Циссу. Только ты, не я. Когда ты мне лгал, когда втравил в эту дурацкую историю… Ты рисковал всем — и вот итог! Не смей взваливать на меня ее смерть. Я не просил этой жизни! Когда ты уже поймешь?! Я вообще не просил ничего из этого! Ничего! Но я тебе хотел отдать — все. Каждый миг, каждое чувство. А ты все выбрасываешь, как тряпки, как… - голос срывается, тело содрогается, но Хель не позволяет себе упасть. Пальцы цепляются в крошево стены, в волосах разливается серебро.
Глаза заволакивает тьмой, в ней только бескрайний океан чужой ненависти, только мрак, от которого не спастись никогда, ведь Хель понимает горькую истину: этот мрак он носит в себе всегда, это его тьма, его зло. Он принимает ее холод и выпрямляется, сопротивляется подступающей слабости со всей доступной яростью. И выплевывает слова вместе с кровью, наполнившей рот.
- Ты — худшее, что случалось со мной, Вильям. Не аннигилятор, а ты. Аннигилятор оставил мне разум, оставил мне меня, а ты уничтожаешь все. Топчешь, рвешь. Из нас двоих ты — чудовище, пусть и не хтоническое. Мнишь себя героем! Легионером! Носишь форму так, словно право на нее имеешь! Ты, пустивший пулю в лоб стольким — без укола совести, заставляющий убивать ради тебя, по твоей указке — так, словно это пустяк. И смеешь меня винить, что я не ценю жизни? У меня нет ничего, кроме жизни! И ту я отдал тебе. Что ты сделал с ней? Со мной?
Хтоник делает шаг вперед, уродливо изменившейся рукой цепляет чужое плечо, заставляет обернуться — в его руках всегда достаточно силы, когда это нужно. Почти ничего не видит, но приваливается ближе, улыбается окровавленной улыбкой, в которой от любви только крошево осколков.
- Вильям Блауз, - срывается с губ вместе с кровью, - я тебе поверил. Твоему шепоту в темноте, искренности жестов. Мнилось: влюбился в человека под маской шута, балаганщика. Ты прогнал меня. Как ты сказал? Скучно одному? Возвращаться обратно? Не позвонил. Не связался. Я гадал: жив, нет? А когда ты вернулся — то истекая кровью, с дырами на месте глаз. Ты знал: я все сделаю для тебя, чтобы помочь. А потом… разнес мою лавку. Обвиняешь…
Голос срывается, ярость сходит на нет, оставляя усталость и желание разрыдаться. Так некстати вспоминается строчка стихов.
- Хотелось бы разреветься,
Но кожа уже порвется,
Я просто марионетка:
Одна из твоих побед.
Он отстраняется, чувствует, как вспыхивает дрожь магии под кожей. Остатки сил сгорают, как бумага, брошенная в камин. Мир полнится нервным касанием к стене. Взгляд проясняется, чтобы выхватить за плечом Вильяма, за панорамой окна — блеск заплетенного кувшинками озера. Прекрасного, как на картинах художников. Хелю кажется: он видел этот пруд, он знает каждый куст магнолии в заросшем саду. Ладонь срывается к груди, ищет след старой раны.
- Давай, ударь, - выдыхает ростовщик, улыбается кровавой раной, тянет к шее лезвия когтей — ведет по плоти, проливая кровь. Это не больно. Но он хочет показать: вот насколько остры эти когти. А тебя они не ранили, не царапнули даже самую малость: гладили по лопаткам, ласкали бешеного дракона, запертого в коже.
- Я тебя любил, - солгать легко, и Хель не останавливается на достигнутом, наполняя собственный голос ядом и обещанием чужой смерти, - если я увижу тебя снова, сделаю с тобой то, что ты — с мне подобными. Убью тебя.
Умру сам.
Несказанное затихает безмолвной клятвой. Хель смеется. Хрипло, надрывисто, как хозяин театра на пожарище, как канатоходец — перед тем, как сорваться вниз. Хтоник знает: сорвется. Он чувствует: магия нестабильна, но это не имеет значения. Он позволяет порталу самому решить судьбу, выбросить куда угодно — не в знакомый уют лавки. Ему все равно, даже если это будет жерло вулкана.
Он не может вернуться в лавку. К Корвусу, который спросит, в чем дело. В келью безумца, которая полнится чужими портретами. Не просто келья безумца — алтарь, построенный для божества, который оказался чудовищем. Даже хуже — человеком. Обычным и лживым. Таким же, как те, что гнали добычей через лес.
Я любил тебя.
Я люблю.
Нога подворачивается на кромке сырой земли, чувство полета длится и длится. Хель успевает увидеть: лес, хлесткость покрытых изморозью ветвей. Холод дыхания в воздухе. Кромка льда на вкус как скорая смерть. Так безразлично, когда хочется лишь одного: чтобы боль ушла. Хелю не совестно и не страшно: его очередь убегать, но он знает, что не оставил следа. Все решила случайность — полет заканчивается темнотой на дне карьера.

Чудовище выпрямляется, откладывает тряпку на прилавок и вздыхает. Усталость похожа на тяжесть чужой одежды, но шелк ласково холодит шкуру. Чудовищу нравится его одежда, а чувство вины не колет даже булавкой: это лишь подарок, который передан Хелю, а значит — и ему. Чудовище не философствует зря, оно знает: они с хозяином — одно, как бы тот ни отрицал. И то, чем владеет один, принадлежит другому.
Даже чужое сердце они разделили надвое. Хель забрал себе Вильяма, Чудовище — Зверя, в чье существование никто не верит, кроме него самого. Чудовище чувствует: хозяину больно. И знает: Зверю больно тоже. Больно Вильяму. Вся эта ночь полнится страданием, как чашка, переливающаяся чаем. Вместо чая, правда, щедро налита кровь.
Чудовище не владеет магией, оно — слепая ярость хозяина. Она же — его рассудок. И когтистые лапы ласково касаются кромки разбитого стекла. С пола осколки убраны, но витрина остреет дырой, словно колотой раной. Чудовище тянет лапу в проем, нащупывает холодную кость кинжала, взвешивает в ладони. Собственные когти видятся оружием более верным.
Корвус спит на софе, разложив крылья, будто человеческий детеныш — руки. Из нелепо распахнутого клюва доносится бульканье. Чудовищу нравится эта птица, Корвусу понравилась рогатая тварь. Хтонюшка, - ласково клонил голову набок пернатый. Чудовище поклялось звать его не иначе как орлом. Орел спал спокойно, насколько только может спокойно спать тот, чей друг вновь пропал без вести. Но Чудовище может успокоить: оно чувствует Хеля, чувствует, как больно бьется разбитое сердце… и как в один миг его поглощает тьма. Собственный мир гаснет почти сразу же, торопясь вернуть в тело, что является все равно общим домом.
Но…
Вспыхивает пламя. Распахивается дверь лавки, незнакомцы врываются скопом, разбудив птицу. Какофония голосов сливается в неразборчивый шум сломанного проигрывателя.
Хель?
Чудовище чувствует: страх принадлежит ему, не хозяину. Синей вспышкой порхает напуганный Корвус, срываясь руганью. Но крылья можно связать магией. Он сам почти уже не существует — лишь смутная тень, лишь отблеск сознания.
Хтонический монстр исчезает, словно и не существовал — может, это и защищает его собственное сердце. Ведь он не видит, как громят лавку, столько лет бывшую для всех них домом. Как магия вспарывает стекло витрин, а рука грабителя пожирает все, что кажется ценностью. Как люди мечутся по двухэтажному зданию в поисках живой души, как смеются над оставленными на стенах рисунками и стихами, ворошат чужие вещи, срывают страницы книг…
Они не находят того, что нужно, и злость охотника на избежавшую ловушки дичь, заставляет сильнее связать птице крылья, улыбнуться, больно ударив по птичьей голове над уродливым клювом, щедро замотанным изолентой.
- Он за тобой придет, верно? Ты же его любимая пташка? - шепчет голос охотника.
Пламя вспыхивает, послушное чужой воле, когда все чужаки оказываются за дверью, на тесной охристой улице. Ночь разрывается заревом пожара: магический огонь жадно впивается в стены, в балки и перекрытия, в драгоценные внутренности старинных книг и вовсе не старинных блокнотов. Пожирая все голодной хтонической тварью.
В глазах птицы застывает не ужас — но боль от потери гнезда, дома, родных людей. Все, что дорого, сгорает в огне, а ты остаешься один.
Жестокая рука тянется выдрать перо из пережатого крыла — длинное, отливающее синевой, блестящее. Уникальное, как и сама добыча, сам пленник.
Перо крепится к обломку сгоревшей двери, магией ложится поверх лаконичная записка:
ТАМ, ГДЕ ВСЕ НАЧАЛОСЬ. ТРИ ДНЯ.
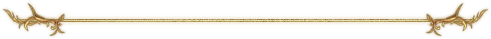











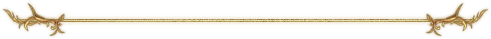

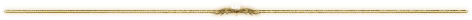




















































![IN:SOMNIA [crossover]](https://upforme.ru/uploads/001c/31/d4/2/155873.jpg)


















![de other side [crossover]](https://i.imgur.com/BQboz9c.png)









































