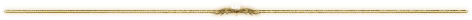Клетка открывается — с премерзким скрипом несмазываемых петель, с предчувствием угрозы лишь надвигающейся. Хель против воли на миг съеживается, отодвигаясь от дарованной свободы — но в следующий его выволакивают за ошейник, словно нашкодившего щенка. Контраст оглушительный: пьяная свобода во взгляде выкупившей хищницы не стыкуется с миром вокруг, с рабами в клетках, с жаром полыхающего в зените солнца. Собственное тело — неправильное, непослушное, опасно изгибается, с трудом удерживаясь на цыпочках, стопы подгибаются, словно ломающиеся палки.
Хель задыхается, хватает ртом воздух, оглядывается с безумием контуженного в висок, но не успевает привыкнуть, когда его стряхивают с крюка, чуть ли не сбрасывают вместе с ошейником в подставленные руки. У дархатки они сильные, уверенные — как у того, кто давно в ладу со своим телом и знает, как выжать из него все и как после вознаградить за труды. Эти руки напоминают другие, знакомые раньше — в движениях чудится нечто неумолимое, почти палаческое. Пророчество тела, ожидающего подвоха, сбывается, когда хтоника силой окунают в фонтан.
Вода, к которой так стремился и о которой мечтал, мгновенно становится пыткой. Хель — не боец, но все равно стыдно, потому что он руки подводят, подводит тело, собственные легкие и горло. Вода заливается в нос, обжигающей прохладой смывает подсохшую коросту с губ и изнутри ноздрей, спустя миг заливается в легкие, душит горло.
Хель напрягает руки, цепляясь за бортик фонтана, силится выбраться, тело вопит о нежелании смерти, хотя разум знает: это еще не смерть, даже не угроза. Еще один шаг, чтобы сломать, убить всякую волю к борьбе. Сам не знает — работает или нет. Но скрежещет пальцами, срывая ногти. Не слышит разговора, не думает о будущем. Все, что сейчас мнится значимым — сделать вдох настоящего воздуха.
- Этому фонтану…
Вдох. Пьянящий настолько, что глаза намокают. Горло сжимается судорогами, легкие горят, исторгая кашель. Влага стекает по лицу, по повисшим нитями волосам, скатывается на шею, затекает под ошейник, чтобы дорожками пересечь после грудную клетку. Облегчения это до странности не приносит — рот полнится привкусом железа и отчаяния. Хтоник распахивает рот, чтобы сказать… сам не знает — разразиться проклятием или поблагодарить, или молиться о быстрой смерти?
Но слова не успевают сорваться с губ — его окунают снова, держат крепко, умело. Он бы так точно не смог. Теперь пытка длится меньше, и, освободившись, Хель забывает, что вообще открывал рот. Он валится мешком костей на землю возле фонтана, цепляется за бортик побелевшими от напряжения пальцами, оставляя блеклую полоску крови из-под вывернутых ногтей. Кашляет, выплевывая воду, тряся волосами, даже не глядя на свою спасительницу-мучительницу-владелицу. Последнее слово горчит на языке и обжигает горло не хуже проглатываемой воды.
Болезненным рывком пальцы срываются к собственной шее, скребут по ошейнику, цепляются за него, выкручивая — бестолку. Хель беззвучно шипит сквозь стиснутые зубы прежде, чем поднять голову — подарить дархатке еще один взгляд серых бесцветных глаз. Хтоник ожидает увидеть в незнакомке презрение и издевку, удовольствие от столь легкого унижения, извращенную радость от чужих страданий. Вместо них находит что-то другое: на него смотрят спокойно, почти ласково, как на щенка, чья участь безразлична. На щенка, которого бросят большим злым собакам на травлю — глядишь, выживет, может, нет, но какая разница?
Чужие глаза — сокровищница пережитых тайн, свершившихся приключений. Хель автоматически цепляется за детали в чужом лице, хотя осмыслить их он сможет только позднее, когда не будет гореть огнем воспаленное горло, когда зачатки судорог не замрут в подреберье. Тонкая нить трещины удлиняется, раскалывается, сбегая по подбородку ниже — до самого кадыка, чтобы там разбить рисунок начинающейся антрацифии. Неправильная трещина, такая же, как сам хтоник — не похожая на лопнувшую поврежденную кожу, не сочащаяся сукровицей. А как будто бы скол в посуде, и кожа вокруг нее кажется чуть рыхлее, если приглядеться. Хель приглядываться не позволяет, но и на слова женщины не реагирует — будто не слышит.
Он быстро натягивает принесенную одежду, которая, кажется, пахнет по-родному — книжной пылью и полынной горечью. Или это ему лишь кажется. Влезает в брюки, надевает жилет, привычно путается в шнуровке дрожащими пальцами. Все его вещи на месте — кроме трости, но о ней можно не волноваться, артефакт не потеряется навсегда. В карманы брюк отправляются плетеные браслеты и одинокая перчатка с полупальцами — рукам не достает ловкости и свободы, чтобы водрузить их на место. В последнюю очередь хтоник прячется в броню потрепанного плаща — такого же неправильного, как он сам. За высоким воротником можно спрятать не только ошейник, но даже дрожащий от слабости рот с уродливой трещиной. Только руки, вопреки рассудку, ненавидящему прикосновения, остаются полностью на виду — от плеч до кистей с багрянцем свежей крови на тонких пальцах.
Хель выпрямляется, насколько позволяет рост, насколько позволяет дрожащее и уставшее тело. Не хватает привычной опоры трости под пальцами — хтоник кусает щеку изнутри, зная, что споткнется на первом же шаге. Но пока держится — и смотрит запуганным злым волчонком.
- Что дальше? - выдыхает он едва слышно, но достаточно, чтобы услышала дархатка, - снимешь это? - задирает голову, демонстрируя ошейник так, словно тот — не рабская цацка, а ювелирное украшение. Только руки выдают — дрожат и срываются к шее, находят под кромкой ошейника старый любимый шрам, цепляются за поджившую корочку, чтобы ее содрать.
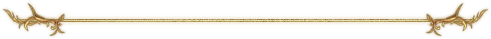
- Подпись автора
→ don't worry, i'll be gentle ←
Эпизод является игрой в прошлом и закрыт для вступления любых других персонажей. Если в данном эпизоде будут боевые элементы, я предпочту стандартную систему боя.





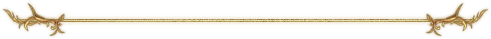

















![IN:SOMNIA [crossover]](https://upforme.ru/uploads/001c/31/d4/2/155873.jpg)


















![de other side [crossover]](https://i.imgur.com/BQboz9c.png)